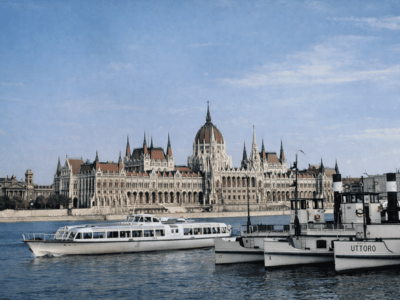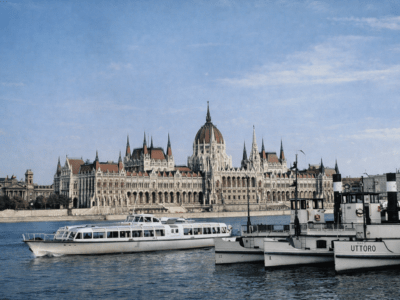В своих лекциях «Логика. Учение Гераклита о логосе», читаных летним семестром 1944 года, Мартин Хайдеггер определил «этику» как «способ пребывания человека посреди сущего в целом», как умение поддерживать своё отношение к способности хранить или терять свой устой собственногосамопребывания в бытии: «Существенная особенность «этоса» этого самопребывания, самоудержания заключается в том, как человек держится сущего и при этом удерживает себя, держит и позволяет держать» [3; с.255-256]. Человеческий ηθοξ, согласно немецкому философу, определяется двояко: 1) он не является автоматически заданным, а требует постоянного решения; 2) это решение должно выноситься на основании понимания сущего вцелом или словами Достоевского – через разрешение проклятых вопросов бытия. Неслучайно Хайдеггер связывает физику и этику, замечая, что: «Основная особенность физики и этики – хотя у каждой она проявляется по-своему – умение разобраться в сущем в его целом. Они направлены на это единое…Физика и этика – это соответствующее умение разобраться в целом сущего» [3; с.267].
Задолго до немецкого философа Ф.М. Достоевский не только интеллектуально, но реально прочувствовав собственной жизнью всю шаткость и не-уютность (ungrund – «без-основность») человеческого «этоса», посвятил всё своё творчество осмыслению этой странности человеческого существования. Эту шаткость писатель ёмко выразил фразой: «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». Эта ширь одновременно возвышает героев Достоевского до подвига самопожертвования собой «за други своя» и обрушает в бездны отчаяния, из которого рождается богоборческий бунт, насилие, разврат «Всё позволено!».
Задолго до А. Камю русский писатель пытается разрешить основной вопрос бытия – что есть жизнь человеческая? — «пошлый водевиль», не стоящий и «ломанного гроша», или таинственная мистерия, где бытие с не-бытием сражается; и арена этой борьбы – глубина сердца человеческого. Серьёзность вовлеченности в эту борьбу, способность её претерпевать, не впадая как в гордыню холодной отчужденности, так и в развязность ложного самоуничижения, характеризует личностный рост, духовную зрелость; прочерчивает этический вектор, узкий путь преображения и спасения. Как заметил однажды французский философ Рене Жерар по поводу творчества Достоевского: «В глубине всех вещей находится либо человеческая гордыня, либо Бог, т.е. две формы свободы».
В одной из своих од «Сократ и Алкивиад» немецкий поэт Гёльдерлин говорит: «Но тот, кто глубочайшее помыслил, — тот любит преисполненное жизни». Как точно соответствует эта фраза не только творчеству, но и самой биографии Федора Михайловича. Одна из вдумчивых читательниц и исследователей творчества великого писателя Маргарита Мазель пишет: «Судьба Достоевского полна такими испытаниями и муками, что хватило бы на десять жизней: трагическая гибель отца, растерзанного собственными крестьянами; вознесение на вершину славы и быстрое низвержение и осмеяние; приговор к смертной казни и стояние на эшафоте с мыслью, что через четыре-пять минут «человеком уже не будешь».

Десятилетняя каторга…изъятие из литературы; всегдашняя бедность…до бегства от долговой ямы…припадки эпилепсии…мучительная страсть к игре в течении почти восьми лет; смерть двоих детей; нападки критиков и непонимание читателей…И при этом радость жизни на этой земле, Богом исхоженной. Только что пережив ужас предсмертного стояния на эшафоте, приговоренный к каторге, он пишет брату из Петропавловской крепости: «Брат. Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не упасть – вот в чем жизнь, в чем задача её» [1; с. 7-8].
Событийный ряд романов Достоевского нарастает и закручивается вокруг устойчивой этической парадигмы, которую одним из первых в европейской интеллектуальной традиции обозначил датский философ Сёрен Кьеркегор: ощущение человеком своей без-домности в мире порождает страдание – человек отправляется на поиски причин (основания) этого страдания – не обнаруживает таковых (un-grund Ничто); отсюда следует, как абсолютная свобода, так и немощь, что приводит либо к «скачку» Веры, либо к отчаянию (у Достоевского к богоборческому бунту). К этому стержню Фёдор Михайлович добавляет возвышенный пафос «Книги Иова», которую очень любил и почитал – в чем причина человеческого страдания и что можно этому противопоставить? Из этой книги писатель заимствует три основных мотива: 1) застигнутый страданием, человек способен вступить (разомкнуться) в живое общение с высшей реальностью, с Богом Живым; 2) человек не может притязать на окончательное постижение «тайны страдания» в этом мире, а значит и не смеет выносить окончательного суда над миром и человеком; 3) страдание и полнота Бытия сопрягаются некой промыслительно-таинственной связью, которая реализует себя в свободном этическом поступке человека либо в пределе возвышенной смиренной жертвенности, либо в нигилистическом бунте.
Ещё одним религиозно-этическим центром творчества великого романиста является, прямо нигде не артикулируемое, но достаточно чётко различимое понимание отличия «вины» от «греха». Быть виновным по Достоевскому означает «бытие-основанием для бытия, определенного через нет, — то есть бытием-основанием некой ничтожности» [2; с.283]. Эта ничтожность обусловлена первородным грехом (слабостью), который делает человека чрезмерно чувствительным к страданию (эту тему разовьёт Ф. Ницше, хорошо знавший творчество русского писателя) собственному, которое он, словно матрешку, помещает в страдание всемировое; из этого вырастает: «кто я – тварь дрожащая или право имею?!», «миру провалиться или мне чаю не пить?!» и т.п. Ненавидя собственное бессилие, человек переносит эту ненависть на ближнего, дальнего…Мир…Бога. Расслабленность – это неспособность взять вину за собственное бессилие на себя, стремление сделать виноватыми других. Достоевский со всей искренностью художественной мощи показывает тяжкость пути кенотического смирения осознания собственной виновности «за всех и зався», и лишь светлый образ Христа, с которым Федор Михайлович хочет быть вопреки любой эмпирической истины, способен поддержать человека, стать «мостом» над бездной отчаяния, через которую совершается прыжок от вины-как-осуждения к вине-как-оправданию.
Отсюда, «грех», понимается Достоевским как личная ответственность перед трансцендентным, понимаемым в качестве высшей моральной инстанции – Богом; но не Богом-автократором, а Богом, предлагающим человеку абсолютную свободу, через покаяние и прощение. Не все персонажи автора способны пройти этот путь. Раскольников, Алёша Карамазов в конце романа стоят только перед возможностью начала этого пути; Свидригайлов, Ставрогин, Настасья Филипповна – срываются с него; Лужин, Ганя, Верховенский – даже не подозревают о нем. И лишь такие «чудаки» как Соня Мармеладова, Тихон, старец Зосима, Мышкин, падая и вставая, упорно следуют по «viadolorosa» за Христом.
Неизвестно насколько хорошо был знаком Достоевский с философией И. Канта, но отголоски этического учения «кёнигсбергского отшельника» можно обнаружить в творчестве русского писателя. Это и нравственный императив, предписывающий относиться к человеку всегда только как к цели и никогда как к средству; и призыв соотносить свою волю с волей всеобщего блага; и вера в то, что нравственный поступок и бессмертие человеческой души взаимополагают (взаимопредполагают) друг друга. Характерно объединяет двух мыслителей и согласие по поводу взаимообусловленности свободы и нравственности. Однако, в отличии от Канта, Достоевскому чужд формально-логический подход к этике; жизнь гораздо сложнее и таинственнее Ratio, и зло фашизма и сталинизма это трагически подтвердило. Как и немецкий философ, великий романист ищет истину Мира, но понимает её, скорее, не в Платоновском смысле в качестве ιδεα – т.е. некоего со-ответствия, из чего вырастает Гегель с его истиной как правильностью и Ницше – истина как воля или ценность, а в качестве до-сократовской αληθεια (не-сокрытости), о которой много будет писать М. Хайдеггер.Это та не-сокрытость, которая постоянно отсылает к прикровенной со-крытости – Тайне Бытия. В свою очередь эта Тайна вновь и вновь разверзается извечными «проклятыми вопросами»: почему мы раздроблены поверхностями, но связаны крепко-накрепко глубинами?; что является нашей подлинной целью – неповторимое ТЫ или всемуравейник?; почему быть Личностью означает быть виновным?; как пробразовать вину-как-осуждение в вину-как-оправдание? И если Достоевский не дал нам исчерпывающих ответов на эти вопрошания, то уж во всяком случае он сделал их более глубокими и вечноактуальными.
***
Кто проложит Путь
Между бунтом и послушанием…
Кто научит быть чутким
К даяниям и наказанию…
Кто приемлет быть принятым
Вопреки?
Прореки…
Нареки…
Не в изгнание
Позови…
Черненко Владимир Александрович – к.филос.н., доцент каф. Общественных наук ХНУИ им. И. Котляревского (Харьков)
УДК.130.2. 17.0
ЛИТЕРАТУРА
- Мазель Рита. Достоевский: о всех и за вся /М.О. Мазель. – М.: Волшебный фонарь, 1999. – 192 с.
- Хайдеггер Мартин. Бытие и время [Текст] /М. Хайдеггер; пер. с нем. В.В. Бибихина. – М.: AD MARIDGEN, 1997. – 452 с.
- Хайдеггер Мартин. Гераклит: 1. Начало западного мышления. 2. Логика. Учение Гераклита о логосе [Текст] /М. Хайдеггер; пер. с нем. А.П. Шурбелева. – Спб.: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2011. – 512 с.