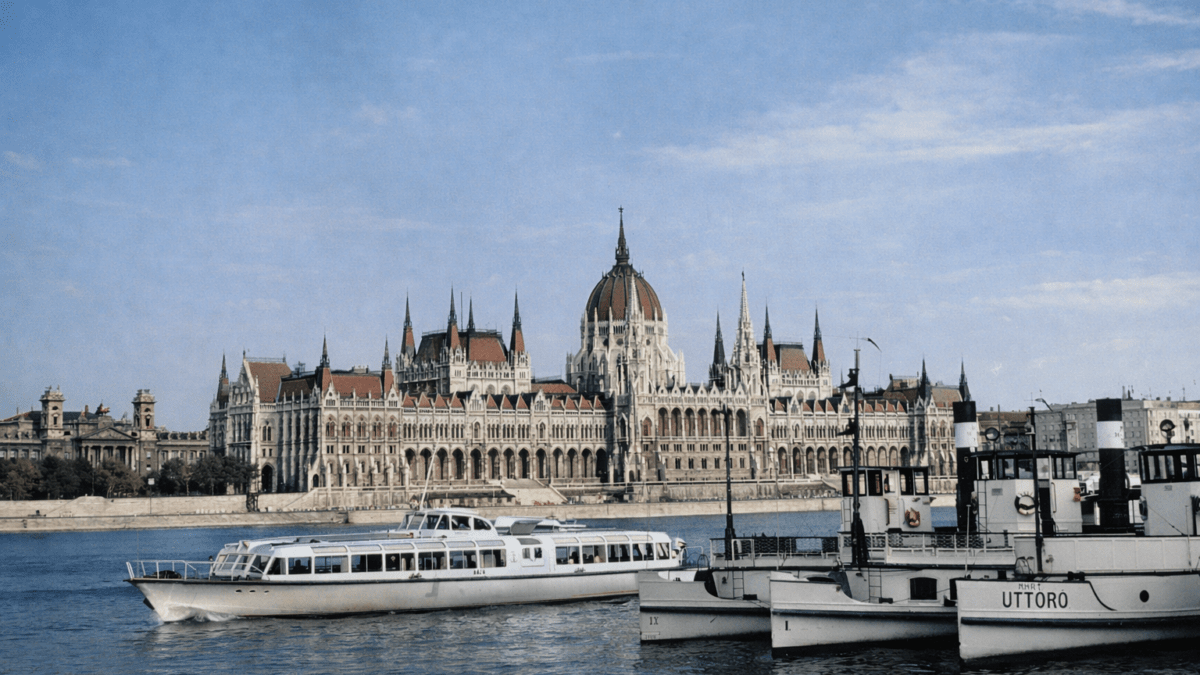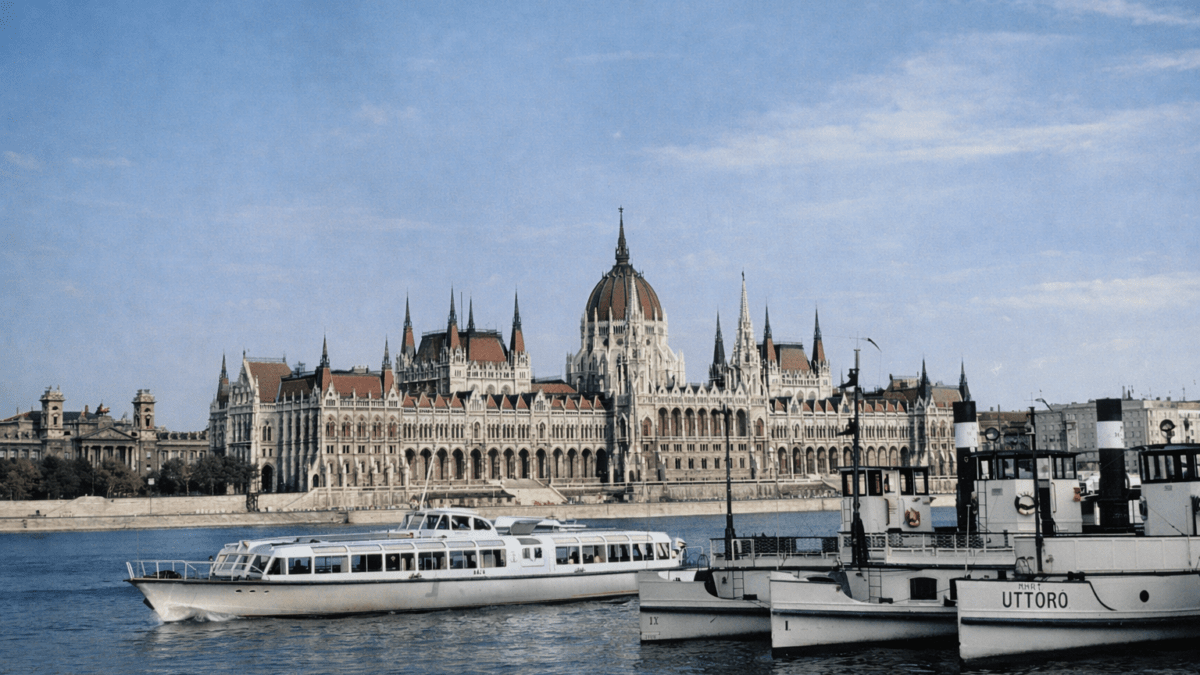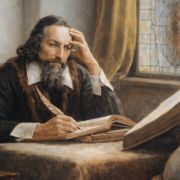Аннотация. В статье ницшевская трактовка религии, в первую очередь, христианства, рассматривается в связи с центральной темой его философии: феноменом нигилизма. История развития религии – довольно мало изученная рубрика его учения – последовательно излагается через призму фундаментального конфликта жизнеутверждения и жизнеотрицания: «Рима и Иудеи». В ходе исследования сформулировано и проанализировано ницшевское видение таких проблем, как: генезис и назначение религии, существо различия между язычеством и христианством, социально-культурные причины и база возникновения христианства, его отношение к иудаизму, метафизическая и психолого-антропологическая подоплека христианства, смерть Бога и ситуация нигилизма в Новое время. Вопреки комментаторской традиции, мысль Ницше показывается с позиций систематической интерпретации, в ее строгости и согласованности. В качестве основного тезиса работы автор утверждает, что Ницше рассматривает христианство генеалогично, то есть не само по себе, но как крупнейшего выразителя и аккумулятора «метафизического порока» отрицания, оторвавшего ценности от условий реальной жизни и поставившего их на службу прямо противоположным целям.
Аннотация. В статье ницшевская трактовка религии, в первую очередь, христианства, рассматривается в связи с центральной темой его философии: феноменом нигилизма. История развития религии – довольно мало изученная рубрика его учения – последовательно излагается через призму фундаментального конфликта жизнеутверждения и жизнеотрицания: «Рима и Иудеи». В ходе исследования сформулировано и проанализировано ницшевское видение таких проблем, как: генезис и назначение религии, существо различия между язычеством и христианством, социально-культурные причины и база возникновения христианства, его отношение к иудаизму, метафизическая и психолого-антропологическая подоплека христианства, смерть Бога и ситуация нигилизма в Новое время. Вопреки комментаторской традиции, мысль Ницше показывается с позиций систематической интерпретации, в ее строгости и согласованности. В качестве основного тезиса работы автор утверждает, что Ницше рассматривает христианство генеалогично, то есть не само по себе, но как крупнейшего выразителя и аккумулятора «метафизического порока» отрицания, оторвавшего ценности от условий реальной жизни и поставившего их на службу прямо противоположным целям.Ключевые слова: нигилизм, религия, христианство, критика христианства, Христос, иудаизм, смерть Бога, Ницше, язычество, переоценка ценностей.
Несмотря на то, что взгляды Ницше на религию – это тема, прилежно и пространно разбираемая более столетия, его видение истории развития религиозных представлений сравнительно мало изучено. Там же, где подобные попытки предпринимаются[1], безраздельно доминирующий несистематический ракурс интерпретации наследия философа не позволяет ухватить предмет в присущей ему полноте. Словом, имеющиеся изложения фрагментарны, они изобилуют пробелами, нарушающими внутреннюю связь темы, и, как правило, скатываются в сухой перечень произвольных фактов, не позволяя увидеть общую картину. Искомая ясность и требуемый масштаб отсутствуют как в наиболее авторитетных, так и в малоизвестных трудах. Но вместе с тем проблема не сводится лишь к недостаточной разработанности вопроса. Позиция Ницше по поводу религии как таковой, существо его критики христианства и связи последнего с нигилизмом, смысл самого ницшевского концепта нигилизма тоже, как правило, неадекватно поняты. Следствием такового положения вещей является, к примеру, распространенное мнение, будто Ницше, критикуя христианство, «предпринял парадоксальную попытку на пике современности вновь вернуть античность»[2]. В ходе исследования будет показано, что античность ставилась философом в пример лишь с большими оговорками, а его амбиции простирались много дальше ее возрождения.
Не пытаясь вступить в полноценную полемику по частным вопросам, в данной работе мы попробуем собрать воедино то, что до сих пор представлялось вразнобой. Ключевой задачей при этом является демонстрация систематической взаимопринадлежности отдельных размышлений Ницше и выявление генетических связей, протянутых от его трактовки религии – в первую очередь, христианства – к метафизике, антропологии, этике, психологии и социальной философии.
1
Великий философ вступает в дело мысли не благодаря переосмыслению сказанного, его развитию, дополнению или отрицанию. Он прозревает в философии то, что до тех пор было ей вообще не осмыслено. В эту область нельзя попасть проторенной тропкой силлогизмов, петляющей от известного к неизвестному. Ее, как подчеркивает Хайдеггер[3], достигают внезапным прыжком. Ницше был одним из таких великих философов, оказавшихся на до тех пор неторном пути. Он задался вопросом: «Как оказалось возможным, что в истории человечества преобладали инстинкты жизнеотрицания и реактивности, что история человека есть история нигилизма?» Не менее строго и последовательно, чем подходили к философским проблемам Кант или Гегель, Ницше разбирает предпосылающую этот факт конфигурацию движущих сил, систему основопонятий и их величественную механику. Такая постановка вопроса естественным образом помещает религию и религиозную мораль в фокус осмысления как те феномены, которые, с одной стороны, являются выразителями нигилистических инстинктов, а с другой – держат ответ за их укрепление и пролиферацию.
Метод, используемый Ницше для анализа, и затем сильно повлиявший на практику деконструкции Деррида, получает имя генеалогии и совмещает в себе средства философии, истории, психологии, социологии, превосходя границы каждой дисциплины в отдельности и все их вместе.
Генеалогия исходит из предпосылки, что смысл всякого явления – и в первую очередь человеческого – это производная от движущих им сил и инстинктов[4]. Среди их многообразия философ различает и размежевывает две противоположные тенденции по направленности и способу соответственно: жизнеутверждение и жизнеотрицание (нигилизм), активность и реактивность. Вынесенная нами в заголовок оппозиция Рима и Иудеи находится в одном ряду со множеством других ницшевских образов и терминов, выражающих по существу одну идею, одно главное для его философии противопоставление. Таковы “Дионис против Распятого”, “мораль господ и мораль рабов”, “благородное и подлое (пошлое)”, “высшее и низшее”. Рим против Иудеи – это не битва людей и народов. Это наднациональное и надисторическое сражение метафизических инстанций, разыгрывающееся на всех больших и малых аренах.
Самая крупная и поистине судьбоносная победа была одержана нигилизмом и реактивностью в лице христианства и развернулась в пространстве и времени гибели античного мира. В гибели старого порядка христианство сыграло не последнюю роль: преимущественно активная и утверждающая античность (Рим) погибла в удушающей хватке реактивного отрицающего христианства (Иудеи). Данное событие предопределило судьбы мира и рассматривается философом с особой точки зрения. Перспектива его оценки христианства – не банальное уличение его лишь как заблуждения, она генеалогична и обнаруживает систему сил и условий, движущих христианским нигилизмом и сделавших его возможным, через эту же призму рассматривая его плоды и последствия. Ницше пишет: «Не то отличает нас от других, что мы не находим Бога ни в истории, ни в природе, ни за природой, но то, что мы почитаемое за Бога чувствуем не как “божественное”, но как жалкое, абсурдное, вредное – не как заблуждение только, но как преступление перед жизнью… Мы отрицаем Бога как Бога… Если бы нам доказали этого Бога христиан, мы ещё менее сумели бы поверить в него»[5].
Здесь важно иметь в виду, что Ницше имеет дело не с религией в строгом смысле слова, его критика проникает намного глубже. Как подчеркивает Ойген Финк, Ницше «яростно атакует метафизику и способ суждения в христианстве»[6]. Для него «христианство представляет собой нечто универсальное…»[7], оно суть роковой выразитель метафизического порока.
2
Прежде чем приступить к разбору ведущей темы статьи, мы, однако, не можем обойтись без беглого очерка трактовки Ницше предшествующей появлению христианства истории религии.
Возникновение религиозных представлений Ницше связывает с первичными отношениями между человеком и природой, во власти которой он находится. Незнание, неопределенность вызывают чувство страха и бессилия; для успокоения требуется найти объяснение происходящему, придать ему некоторую закономерность и смысл, а собственному бытию уверенность. Не имея еще никакого представления о естественной причинности, человек проецирует хорошо известную ему непосредственную данность собственного хотения – чувства свободы поступать так, а не иначе – на весь мир. Рождается вера в то, что воля есть причина всякого действия: формируется взгляд на природу, как на «совокупность действий существ, обладающих сознанием и волей, огромный комплекс произвольностей»[8]. Религия подводится Ницше под «понятие воображаемых причин»[9] и коренится в толковании естественных процессов как деятельности.
Между тем далеко не только страх двигал первые акты объемлющего познания: экспансивное существо жизни усматривает в окружающем мире не одну лишь опасность, но в первую очередь объект овладения. Этой цели служит культ, ознаменовавший продвижение проекции человеческого на нечеловеческое на следующую ступень. Область социальных отношений толкает к мысли, что воздействовать на превосходящие силы и добиться их благосклонности можно так же, как в отношениях с людьми: «мольбами и молитвами, покорностью, обязательством приносить постоянную дань и дары, льстивым славословием»[10]. Принцип умилостивления, доминирующий в культе, дополняется магическими практиками, основанными уже на самонадеянной вере в способность насильственно «принудить природу к выгоде человека»[11].
Для обслуживания культа в общине выделяется сословие жрецов, заинтересованных в людской вере и в особом содержании этой веры. Средствами религии жрец кормится, от нее зависит его власть, поэтому он становится профессиональным лицедеем сверхчеловеческого[12]. Не имея в руках реальных сил, он внушением и манипуляцией пробуждает и поддерживает в людях благоговейный трепет перед могучими природными духами и богами, для общения с которыми его услуги необходимы и незаменимы. «Неповиновение Богу, т. е. жрецу, “закону”, получает теперь имя “греха”; средствами для “примирения с Богом”, само собой, являются такие средства, которые основательнее обеспечивают подчинение жрецу: только жрец “спасает”. В каждом жречески организованном обществе психологически неизбежными делаются “грехи”: они факторы власти, жрец живёт грехами, он нуждается в том, чтобы “грешили”»[13]. Жрецу требуется понятие ответственности перед сверхъестественным, чтобы наказывать и судить, чтобы править.
Воля к власти жреца не просто сформировала вероучение и культ. Сами характерные черты его психофизического типа вошли в плоть религиозных воззрений. В разные времена роль жрецов играли люди слабые физически и склонные к праздности, оттого более хитрые и умные; больные, малокровные и неполноценные, с беспокойной озлобленной душой и дурным глазом на все недоступное им: воинское, здоровое, сильное, богатое, радостное; полусумасшедшие, лжецы и лицемеры. Свой образ жрец впечатал в культуру, проповедуя «только одну мораль: такую, при которой сам он воспринимается как высший тип», а его добродетели, свойства и условия господства становятся «шкалой ценностей всех людей»[14].
Ницше не отказывал религии и жрецу в положительном значении, признавая, что они могут иметь разный смысл и исполнять разные роли. Религия явилась необходимым этапом и условием возможности становления человека человеком[15]. Также и за христианством, несмотря на его предельную нигилистичность, философом признается немалое значение для развития человеческих возможностей. Однако религия с сильным активным и утверждающим элементом справилась бы с этой задачей несравненно лучше, она впервые поставила бы ее сознательно и не привела к господству все низкие и рабские инстинкты, столькие опасные заблуждения, болезни и уродства.
3
Названный элемент содержали в себе многие ранние религиозные представления: они говорили “Да” естественному, сильному, здоровому, они выражали избыток и полноту, благодарность жизни. Образцом такой религии Ницше считает языческие верования греков, которые не проводили резкой границы между человеческим и божественным. «Греки взирали на гомеровских богов не как на своих владык и не сознавали себя их рабами, подобно иудеям. Они видели в них как бы лишь отражение самых удачных экземпляров своей собственной касты, т. е. идеал своего собственного существа, а не его противоположность»[16]. Религия здесь служила оправданием и украшением жизни, возведением в художественную, совершенную форму присущих ей свойств, инстинктов, освящением повседневных занятий, которые получали свой исток и воплощение в небожителях.
Примерно в середине пятого века в греческой среде началось медленное разложение. Появились признаки истощения: «перевес перешел на сторону черни»[17]. Ключевыми фигурами развития декаданса явились Сократ и околдованный им Платон – инстинктивные евреи, семиты, радикально исказившие перспективу мировосприятия[18]. Начиная с них, философия стала говорить на языке морального фанатизма и содержать обесценивающий жизнь разрыв между миром сим и миром иным. О. Финк указывает, что именно здесь Ницше видит начало той «системы западных онтологических ценностей, которая трактует чувственное здесь и сейчас, непосредственно переживаемое в свете идей и трансцендентности, а “настоящий”, реальный мир провозглашает предварительным, неподлинным, видимостью. Он называет это платонизмом»[19]. Пять столетий спустя упрощенный, популистский платонизм в виде христианства ввел в кровь и плоть общества систему регрессивных ценностей. Но именно с Сократа и Платона началось торжественное шествие жизнеотрицания и были утверждены идеи презрения к мирскому и личного спасения в потустороннем мире. Индивидуально-этическая ориентация, глубокий политический упадок и творческое обнищание последующей греческой традиции являются красноречивыми свидетельствами возобладания тлетворного духа. В философских школах эпикурейства, стоицизма, скептицизма воцарились болезнь и усталость: первая свела философию к проблемам радости и страдания, вторая воспринимала человека бессильной игрушкой судьбы, третья – была не в состоянии утверждать что-нибудь позитивное и скатилась в пустую риторику.
Словом, христианство пришло на уже возделанную почву расслабленной воли и усталых инстинктов, и когда оно возвысило голос, то тотчас нашло отклик в античной среде. Новая религия возглавила борьбу против благородных типов и идеалов, собрав вокруг себя: «разряд слабых и неудачников», «разряд обросших моралью и антиязыческих», «разряд политически усталых и индифферентных», «разряд тех, кто сам себе надоел»[20]. Таким образом, «христианство – это форма распада старого мира в глубочайшем его бессилии, при котором самые болезненные и нездоровые слои и потребности»[21], скопившиеся в античном обществе, всплывают наверх. Одной из основных причин его успеха явилась та «враждебность, которую все низшие питают ко всему, что в чести и почете: им это учение подсовывают как учение против всех сильных и мудрых мира сего, вот что к нему и соблазняет»[22]. Христианство сплотило угнетенных, страдающих и пессимистов, оно «отдало предпочтение всему, что обществом отторгнуто, оно взрасло из среды изгоев и преступников, отверженных и прокаженных всех мастей, “грешников”, “мытарей” и проституток, из самого темного люда (“рыбаки”)…»[23].
Мерой всех вещей был учрежден маленький человек, его пошлая “нравственность” и стадные, реактивные “добродетели”. К вечной жизни это движение, в сущности, и не стремилось. Оно хотело здесь создать условия для благополучия и комфорта последних людей, сделать себя «непререкаемым идеалом всех ценностей… – и назвать это Богом: инстинкт самосохранения беднейших, самых жизненно-скудных слоев»[24]. Поднявшиеся слои не были способны «действовать иначе, как только разлагая, отравляя, угнетая, высасывая кровь», их подгонял «инстинкт смертельной ненависти против всего, что возвышается, что велико, что имеет прочность, что обещает жизни будущность…»[25]. Как на химическую формулу христианства, в которой оно высказывает само себя, Ницше ссылается на «неоценимые» слова ап. Павла: «“Бог избрал немощное мира, немудрое мира, незнатное мира, уничиженное мира”»[26]. Бунт чандалы против привилегированных погубил наследие античности, разрушил «огромное дело римлян – приготовить почву для великой культуры, требующей времени»[27].
4
Но хотя только на античной почве христианство стяжало мировую власть, рождено оно было не античностью. Платоническая и эллинистическая философии содержали в себе еще много благородных свойств, чуждых христианству. Христианство представляет собой наследника иудаизма, христианин есть «иудей во второй, даже третьей степени»[28]. «Первоначально, – отмечает Ницше, – во времена Царей, и Израиль стоял ко всем вещам в правильном, т. е. естественном, отношении»[29]. В своем Боге он воплощал условия собственного восхождения и могущества, свои добродетели и идеалы. Бог требовался народу, чтобы благодарить и жертвовать, он был воплощением его чувства власти и самоудовлетворенности. Однако продолжительные мытарства, политическая несостоятельность и внутреннее брожение привели к переосмыслению Бога, который как воин, советчик, покровитель, выразитель воли к власти народа не исполнял своей роли.
Бог становится деспотом, жрецы денатурализуют его, и мораль обращается в абстракцию, в противоположность жизни. Воспользовавшись несчастьями иудеев и последовавшим упадком духа, жрецы теперь истолковывают «всякое счастье как награду, всякое несчастье – как наказание за непослушание против Бога, как “грех”»[30] – и благодаря этому правят. Идея греха – то есть преступления против фикции – дополняется враждебностью «против благородных, против всех знатных, гордых, против власти, против господствующих сословий»[31]. Иудеи, паразитирующие на теле Римской империи и утратившие касты воинов и земледельцев, возводят проклятье на все воинское и плодотворное, возвышающееся, активное и утверждающее – на саму жизнь.
Именно в этой среде царивших инстинктов бессильной злобы и мести жил и умер Иисус. Ему «пришлось горько поплатиться за то, что он обращался к самым низким слоям иудейского общества и иудейского ума – ибо в итоге они перевоссоздали его по тому образу и подобию, который был доступен их разумению»[32]. Апостол Павел и другие евреи нуждались в сыне Божьем, чтобы отплатить не только античным господам, но и своим собственным жрецам. Это был протест иудейской черни против правящих иудейских жрецов и вообще всего, обладающего властью. Личность, учение и, главное, смерть Христа были лишь поводом, их присвоили, фальсифицировали, исказили до неузнаваемости. «Ещё раз явилось на переднем плане популярное ожидание Мессии; исторический момент был уловлен; “Царство Божье” наступит, чтобы судить… врагов»[33] иудеев. В ответе на абсурдный вопрос, как Бог мог допустить позорную гибель своего Сына, «повреждённый разум маленькой общины дал такой же поистине ужасный по своей абсурдности ответ: Бог отдал своего Сына для искупления грехов, как жертву»[34]. Еврей здесь приобрел превосходную степень: «главным делом иудаизма было сплести воедино вину и несчастье, а всякую вину свести к вине перед богом; христианство возвело это дело в квадрат»[35]. Долг сделался неоплатным, а языческое мироощущение, чуждое идее греха, пропиталось чувством изначальной вины. По воспринятой иудейской традиции действие начало истолковываться вне всякой связи с жизнью и пользой. Этот принцип гласил: «всякий поступок должен рассматриваться лишь в своих сверхъестественных последствиях, отнюдь не в естественных»[36]. Затем, дабы запреты деспота-Бога приобрели исключительный вес, была изобретена потусторонняя жизнь, где единственно возможна изощренная система наказаний: возникло учение о бессмертии души, посмертной каре и награде. Реальная жизнь тем самым была лишена центра тяжести и утратила смысл.
Человек постоянно чувствует на себе испытующий взгляд Бога, читающего в сердцах: рождается христианская нечистая совесть – роковой и пагубный недуг. Отрицание и злопамятность иудаизма обращаются внутрь человека и становятся ключевой чертой христианского этоса. «Вражда, жестокость, радость преследования, нападения, перемены, разрушения – всё это повёрнутое на обладателя самих инстинктов: таково происхождение “нечистой совести”»[37]. Христианский вариант нечистой совести добавляет к этому самокопанию, самоистязанию постоянный страх, чувство неизбывной вины, невозможности рассчитаться с кредитором. Совесть – это постоянно находящийся внутри безжалостный жандарм, «внутренний голос, который соизмеряет ценность всякого действия и поступка не с его последствиями, а с намерением и с тем, как это намерение согласуется с “законом”»[38].
В учении о бессмертии души наносится один из самых тяжелых ударов аристократическому духу. Христианству удается добиться, «чтобы каждый, как “бессмертная душа”, был равен каждому, чтобы в совокупности всего живущего “спасение” каждой отдельной единицы смело претендовать на вечность, чтобы маленькие святоши и на три четверти чокнутые смели воображать, что ради них постоянно нарушаются законы природы… <…> Яд учения “равные права для всех” христианство посеяло самым основательным образом. <…> “Бессмертие”, признаваемое за каждым Петром и Павлом, было до сего времени величайшим и злостнейшим посягательством на аристократию человечества… »[39].
Ключевую роль в утверждении новых идеалов сыграл Павел – «гений в ненависти, в видениях ненависти, в неумолимой логике ненависти. Чего только не принёс этот dysangelist в жертву своей ненависти! Прежде всего Спасителя: он распял его на своём кресте. <…> Во что не верил он сам, в то верили те идиоты, среди которых он сеял своё учение. – Его потребностью была власть; при помощи Павла ещё раз жрец захотел добиться власти, – ему нужны были только понятия, учения, символы, которыми тиранизируют массы, образуют стада»[40]. Павел «распознал великую потребность языческого мира и, дав совершенно произвольную подборку фактов жизни и смерти Христа, переставив акценты, повсюду сместив центр тяжести… он исконное христианство по сути аннулировал»[41].
В христианстве позднеиудейская психология претерпевает трансформацию. Тираническое существо Иеговы затушевывается и видоизменяется, Бог становится немощным, “добрым” деспотом, космополитом, оторвавшимся от национальной перспективы и от всякого естества вообще. Враждебность принимает пассивные формы, на первый план постепенно выступают покорность, добродетели подчинения, смирения, кротости, отказа и недеяния как следствие угнетенного, обессиленного и униженного самоощущения. Божество «делается теперь пронырливым, боязливым, скромным, советует “душевный мир”, воздержание от ненависти, осторожность, “любовь к другу и врагу”»[42].
Словом, как отмечает Делёз, два аспекта иудейского сознания: общий аспект ненависти к жизни и частный аспект любви к больной и реактивной жизни – меняются местами в христианстве[43]. Возникает знаменитая “христианская любовь”, где, как и во всем этом учении, «в косвенной форме звучит самая низменная, самая яростная клевета и жажда изничтожения, – то есть одна из самых подлых форм ненависти»[44]. Христианская любовь – это не просто елейная и пролгавшаяся форма стадного инстинкта, это силлогистический вывод из иудейской ненависти, задрапировавшейся в свою противоположность. Она любит только реактивное, мелкое, безобидное, посредственное, нисходящее – любит из страха, из обескровленной, придушенной ненависти. Практикой этой “любви” является сострадание. «Что такое сострадание? – спрашивает Делёз. – Оно – терпимость к состояниям жизни, близким к нулю. <…> Воинствующее, оно провозглашает окончательную победу убогих, страдающих, бессильных, малых. Божественное, оно дарует им эту победу. Кто испытывает сострадание? Как раз тот, кто допускает лишь реактивную жизнь, кто нуждается в этой жизни и в этом триумфе, кто воздвигает свои храмы на болотистой почве такой жизни. Тот, кто ненавидит в жизни все активное, кто пользуется жизнью для отрицания и обесценивания жизни, чтобы противопоставить ее самой себе»[45]. Сострадание не оказывает помощи и не производит позитивной перемены, оно лишь умножает страдание и делает его заразным, через него утрачивается, истощается сила. Сострадание «встаёт на защиту в пользу обездоленных и осуждённых жизнью; поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачною и возбуждающею сомнение»[46]. «…Этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни: умножая бедствие и охраняя всё бедствующее, оно является главным орудием decadence – сострадание увлекает в ничто!»[47].
На фундаменте из предпосылок, заложенных в период раннего христианства, впоследствии было возведено много новых построек, обогащающих и продолжающих декадентское учение и торжество декадентского типа. Христианином «страдание, борьба, труд, смерть расцениваются как возражения против жизни»[48], он неспособен на благородное отношение к тяготам и лишениям. Христианство проклинает и презирает тело и относится к нему как к врагу, изнурение плоти, аскетизм, ненависть ко всякой гигиене, чистоте, здоровью приобретают в нем предельно уродливые формы. Христианство – инстинктивный враг красоты и чувственности, оно поносит пол, природу, клевещет на искусство, а там, где его допускает, оскопляет цензурой.
Христианство – первейший враг разума и науки, оно не может допустить здорового понятия о причине и действии, поскольку сознает, что «приходит конец жрецам и богам, когда человек начинает познавать науку! – Мораль: наука есть нечто запрещённое само по себе, она одна запрещена. Наука – это первый грех, зерно всех грехов, первородный грех. Только это одно и есть мораль. – “Ты не должен познавать”; остальное всё вытекает из этого»[49]. Христианство полно чудес и суеверий, «в мире представлений христианина нет ничего, что хотя бы только касалось действительности: напротив, в корне христианства мы признали единственным деятельным элементом инстинктивную ненависть ко всякой действительности. Что из этого следует? То, что здесь in psychologicis заблуждение является радикальным, т. е. значимым по существу, т. е. самой субстанцией»[50]. Не удивительно, что “вера” – эта болезнь ума – превозносится как первейшая ценность, а сомнение, все честные и прямые пути объявляются грехом.
Христианство именует добродетелями добродетели немощных: оно превозносит бедность, отказ от власти, целомудрие, смирение и низкопоклонство. Христиане приносят реактивности триумф, они отвергают деятельность и тяготеют к состояниям бездействия и бесполезности: молитве, монашеству. «Сидя в углу, ёжась, как крот, живя в тени, как призрак, – они создают себе из этого обязанность»[51].
5
Все, что мы рассмотрели выше и что опустили, «вся христианская “истина” есть сплошной и подлый обман; это прямая противоположность тому, что положило начало движению христианства»[52]. Проповеди Христа, его жизнь и смерть, очищенные от подлогов и фальсификаций толкователей, отрицают все, что принято считать христианским. Они практичны и чужды всякой теологии, они учат, что «образцовая жизнь заключается в любви и смирении; в полноте сердца, которая не отталкивает и самого последнего человека; в безусловном и полном отказе от желания настоять на своей правоте, от защиты, от победы в смысле личного триумфа; в вере в блаженство здесь, на земле, вопреки беде, сопротивлению и смерти; в примирительности, в отсутствии гнева, презрения; в неискательстве награды; в несвязывании никого признательностью; изощреннейшее духовно-умственное бессеребренничество…»[53]. Великий буддист Христос провозгласил, что блаженство пребывает здесь, на земле, в самом тебе, и его можно достигнуть, изменив свой образ жизни и мыслей. Проповедуемое им «“Царство Небесное” есть состояние сердца, а не что-либо, что “выше земли” или приходит “после смерти”»[54]. Оно «“грядет” не хронологически-исторически, не по календарю… это есть “изменение чувства в отдельном человеке”…»[55].
Христос говорит на символическом языке реальностей внутреннего опыта. «…Словом “Сын” выражается вступление в чувство общего просветления (блаженство); словом “Отец” – само это чувство, чувство вечности, чувство совершенства»[56]. Каждый может стать Сыном, обрести блаженство здесь – ни о каком “там” он не ведет речи, в его учении нет ни смерти, ни того, что после нее, лишь всегдашнее бытие. «То, с чем покончило Евангелие, это было иудейство в понятиях “грех”, “прощение греха”, “вера”, “спасение через веру”, – всё иудейское учение церкви отрицалось “благовестием”. Глубокий инстинкт, как должно жить, чтобы чувствовать себя на “небесах”, чтобы чувствовать себя “вечным”, между тем как при всяком ином поведении совсем нельзя чувствовать себя “на небесах”, – это единственно и есть психологическая реальность “спасения”. – Новое поведение, но не новая вера»[57]. «Христианство – это на самом деле полное безразличие к догмам, культу, священникам, церкви, теологии»[58], государству, жрецу, их пассивное отрицание. Оно представляет собой буддистское движение за мир души и реактивное блаженство, оно упраздняет всякую вражду и иерархию, всякие амбиции и цели, снимает все противоречия.
«Жизнь Спасителя была не чем иным, как этой практикой, не чем иным была также и его смерть. Он не нуждался более ни в каких формулах, ни в каком обряде для обхождения с Богом, ни даже в молитве»[59]. Его смерть «сама по себе отнюдь не была главным событием… это был просто еще один знак, как надо вести себя с мирскими властями и законами – не противиться… В этом и был пример»[60], сильнейшее доказательство его учения.
«Этот “благовестник” умер, как и жил, как и учил, – не для “спасения людей”, но чтобы показать, как нужно жить. То, что оставил он в наследство человечеству, есть практика, его поведение перед судьями, преследователями, обвинителями и всякого рода клеветой и насмешкой – его поведение на кресте. Он не сопротивляется, не защищает своего права, он не делает ни шагу, чтобы отвратить от себя самую крайнюю опасность, более того – он вызывает её… И он молит, он страдает, он любит с теми, в тех, которые делают ему зло. В словах, обращённых к разбойнику на кресте, содержится всё Евангелие. “Воистину это был Божий человек, Сын Божий!” – сказал разбойник. “Раз ты чувствуешь это, – ответил Спаситель, – значит, ты в Раю, значит, ты сын Божий”»[61].
Христос не был христианином. Ничто не было ему так чуждо, как церковное учреждение, «которое в итоге научается ладить со всей государственной организацией… и ведет войны, приговаривает, пытает, клянется, ненавидит»[62], как теологическая и культовая казуистика с молитвами и костюмированными сценами. Отношение Ницше к фигуре Христа, таким образом, не лишено восхищения. «Вновь и вновь, – верно подмечает Т. Альтицер, – антихрист Ницше изображает Иисуса как некоего невинного предшественника Заратустры»[63].
6
Словом, «церковь никогда не имела в себе ни мужества, ни воли присягнуть делам, которых требовал Иисус»[64]. Его чистая буддистская реактивность, святая простота учения были фальсифицированы нигилистической средой античных и иудейских низов, которые сотворили Бога по своему образцу, выразили в нем свой тип. То, что отрицало жреца, было жрецом присвоено, и он путем потакания этой агрегатной массе «кишащих и тянущихся друг к другу болезненных образований»[65] обеспечил себе торжество. Как и всякий жрец, жрец христианский действовал хитростью и коварством, широко используя “святую ложь”, чтобы сломить остатки сопротивления. Все естественные движущие силы были перетолкованы в явления духовного порядка, сообщение с которыми находится в его руках. Внутренняя необходимость декадентского типа, т.е. новый идеал, была провозглашена мерой и судьбой всех вещей, их причиной и смыслом, она узурпировала и монополизировала добродетель. Все противоречащее было оклеветано, было превращено в грешное, дьявольское, все беды выводились из сопротивления христианскому идеалу, объявляясь карой. Наказание и милость в загробной жизни, попечение о бессмертной душе, истина, благо – всякую высшую власть, авторитет, достоверность жрец присвоил с помощью фикций.
В социальном плане, помимо широты и многочисленности базы, неоценимую услугу христианству оказали гонения, показавшие, что их секту приняли всерьез: они теснее сплотили ранние общины и накалили страсти. Чувство единства, коллективной солидарности и избранничества, мираж спасения породили фанатичную убежденность, которая, как известно, убеждает лучше всяких доводов и привлекает новых последователей. С другой стороны, «последующее подчинение господствующих рас христианству в существенной мере есть следствие убеждения, что христианство – религия стадная, что оно учит послушанию, – короче, что христианами легче править, чем нехристианами»[66].
Борьба жреца против всего восходящего, против языческого велась и ведется за счет того, что и составляет главное отличие христианства от язычества, – радикальной оторванности от земли, денатурализованности: «повсюду подсовывается Бог и изымается “полезность”: повсюду отрицается действительный исток всякой морали, а уважение к природе, суть которого именно в признании природного характера морали, изничтожается под корень»[67]. Зараженный нигилином делается болен, испорчен, как животное, «когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно предпочитает то, что ему вредно»[68]. Изобретенный нигилистическими фантазерами мнимый мир не есть грёза художника и язычника, в которой действительность умножается, очищается, совершенствуется, прославляется. В нигилистической фикции действительность вычитается и опорочивается, разбожествленный человек находит в ней хулу на самого себя и природу, а не их органичное продолжение.
7
Жрецам удалось околдовать и германские, и кельтские, и славянские народы, войти в их кровь и плоть. Борьба с немногочисленными сопротивляющимися элементами велась с неизменным успехом – вплоть до Ренессанса. «Понимают ли наконец, хотят ли понять, что такое был Ренессанс? – спрашивает Ницше. – Переоценка христианских ценностей, попытка доставить победу противоположным ценностям, благородным ценностям, при помощи всех средств, инстинктов, всего гения… <…> – Но что случилось? Немецкий монах Лютер пришёл в Рим. Этот монах, со всеми мстительными инстинктами неудавшегося священника, возмутился в Риме против Ренессанса…»[69]. Реформация погубила этот порыв, немцы его погубили, у Ренессанса не хватило сил, чтобы возобладать.
Христианство оставило Средние века всецело за собой и начало победное шествие по эпохе Нового времени. В соответствии с велениями исторической ситуации, наукой и возникшими социальными институтами, оно, то есть возделанные им базовые инстинкты и допущения, приняло новые, обманчиво нехристианские формы. Философия любой ценой старалась протащить Бога и богово через заднюю дверь, это поставили себе задачей и Кант, и Гегель, идеализм и всякий иной новоевропейский нигилизм. Те же, кто отвергал Бога, оставались сущностно христианами, будучи верны декаденстким ценностям и не видя их пагубности, их абсолютной беспочвенности при условии лишения поддержки со стороны фикций. В русле последней тенденции оказались все общественно-политические идеалы. Социализм, как и Евангелие, слал «весть, что всем низшим и бедным открыт доступ к счастью, – что ничего и делать не надо, кроме как избавиться от учреждений, традиций, опеки высших сословий… <…> Собственность, честный промысел, отчизна, сословия и ранг, суды, полиция, государство, церковь, образование, искусство, военное дело – все это суть многочисленные препоны счастью, средостения, дьявольские козни, коим Евангелие сулит суровый суд – и все это точно так же типично и для социалистического учения. В подоплеке тут возмущение, взрыв накопившегося недовольства против “господ”…»[70]. Равным образом, и в демократии «окончательно возобладает стадный инстинкт, то бишь во всех отношениях бесценная посредственная натура, которая высшую санкцию получает именно благодаря христианству. Эта посредственная натура в конце концов до такой степени начинает себя уважать (и до такой степени осмелевает), что уже помышляет о доминировании и в политическом смысле… – Демократия – это объестествленное христианство: своего рода “возврат к природе”…»[71].
Что же мы наблюдаем в науке, философии, социализме, демократии, анархизме, жизненной практике Нового времени? Несомненно, смерть Бога, но, несомненно, и сохранение дела божьего. Как свидетельствует Делёз, «убийцей Бога является реактивный человек»[72]: «реактивная жизнь разрывает союз с негативной волей, она хочет царствовать единолично»[73]. Человек слишком устал от той активности, что еще была в его отрицании, от налагаемых им ограничений и обязанностей, Бог стал ему в тягость – и он убил его. Теперь «он ставит себя на место Бога: он больше не ведает ценностей, превосходящих жизнь, но он знает лишь реактивную жизнь, которая довольствуется собой и притязает на эманацию собственных ценностей»[74]. Он скатывается в угасание, разложение и распадение в ничто, христианская отрицающая активность истощается и истончается еще больше, она заменяется идеалами демократического общества потребления, самодовольной сытостью, комфортом, наживой, паразитизмом, наркотизацией, бессмысленностью, немощной бездарностью.
Мир сегодня, как и раньше, представляет собой арену той главной, единственной борьбы. На внутренней стороне всех вещей мы различаем ее формулу: “Рим против Иудеи”, активное против реактивного, утверждение против отрицания. Какое положение при этом занимает христианство, есть ли оно вообще или его нет – по существу, не важно, ибо христианство только форма, пусть и грандиозная. Ницшевская критика христианства от этого ничего не проигрывает. Она не только “остается актуальной” – она остается неактуальной, в том смысле, в каком неактуально все существенное. Она вне момента, вне вчера, сегодня и завтра: она вечна, как вечен Рим – и как вечна Иудея.
Цендровский О.Ю. Рим против Иудеи: ницшевская трактовка истории и генеалогии христианства
// Философия и культура. — 2014. – № 10. – С. 1478-1487.
Список литературы
- Делёз Ж. Ницше и философия. М.: Ад Маргинем, 2003.
- Лёвит К. От Гегеля к Ницше. СПб.: Владимир Даль, 2002.
- Марков Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше. СПб.: Владимир Даль, 2005.
- Ницше Ф. Соч.: в 2 т. / Сост. и общ. ред.: К.А. Свасьяна. М.: Мысль, 1996.
- Ницше Ф. Воля к власти. М.: Культурная революция, 2005.
- Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Академический проект, 2010.
- Ясперс К. Ницше и христианство. М.: Медиум, 1994.
- Fink E. Nietzsche’s Philosophy. L., N.Y.: Continuum, 2003.
- Kaufmann W. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton: Princeton University Press, 1974.
- Lowith K. Nietzsche’s Philosophy of the Eternal Recurrence of the Same. Berkley: University of California Press, 1997.
- The New Nietzsche: Contemporary Styles of Interpretation / ed. by D.B. Allison. N.Y.: Dell Publishing Co., 1977.
[1] См., напр.: Делёз Ж. Ницше и философия. М., 2003; Марков В.Б. Человек, государство и Бог в философии Ницше. СПб, 2005; Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994; Kaufmann W. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton, 1947; Lowith K. Nietzsche’s Philosophy of the Eternal Recurrence of the Same. Berkley,1997.
[2] Лёвит К. От Гегеля к Ницше. СПб., 2002. С. 568.
[3] См.: Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М., 2010. С. 98.
[4] См., напр.: Делёз Ж. Указ. соч. С. 33-37.
[5] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 672-673.
[6] Fink E. Nietzsche’s Philosophy. L. – N.Y., 2003. P. 124.
[7] Ibid.
[8] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 1. С. 303.
[9] Там же. Т. 2. С. 585.
[10] Там же. Т. 1. С. 304.
[11] Там же. С. 305.
[12] См.: Ницше Ф. Воля к власти. М., 2005. С. 103.
[13] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 653.
[14] Ницше Ф. Воля к власти. С. 102.
[15] См.: Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 421.
[16] Там же. Т. 1. С. 306.
[17] Там же. Т. 2. С. 281.
[18] См.: Ницше Ф. Воля к власти. С. 129.
[19] Fink E. Nietzsche’s Philosophy. P. 124.
[20] Ницше Ф. Воля к власти. С. 109.
[21] Там же. С. 118.
[22] Там же. С. 118.
[23] Там же. С. 137.
[24] Там же.
[25] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 687.
[26] Там же. С. 677.
[27] Там же. С. 687.
[28] Там же. С. 688.
[29] Там же. С. 650.
[30] Там же.
[31] Ницше Ф. Воля к власти. С. 125.
[32] Там же. С. 130.
[33] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 665.
[34] Там же.
[35] Ницше Ф. Воля к власти. С. 124.
[36] Там же.
[37] Там же. С. 461.
[38] Ницше Ф. Воля к власти. С. 105.
[39] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 667.
[40] Там же. С. 666-667.
[41] Ницше Ф. Воля к власти. С. 114.
[42] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 643.
[43] См.: Делёз Ж. Указ. соч. С. 305.
[44] Ницше Ф. Воля к власти. С. 136-137.
[45] Делёз Ж. Указ. соч. С. 299.
[46] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 636.
[47] Там же.
[48] Ницше Ф. Воля к власти. С. 144.
[49] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 674.
[50] Там же. С. 664.
[51] Там же. С. 669.
[52] Ницше Ф. Воля к власти. С. 112.
[53] Там же, с. 115.
[54] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 660.
[55] Ницше Ф. Воля к власти. С. 112.
[56] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 683.
[57] Там же. С. 659.
[58] Ницше Ф. Воля к власти. С. 112.
[59] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 659.
[60] Ницше Ф. Воля к власти. С. 116.
[61] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 660.
[62] Ницше Ф. Воля к власти. С. 114.
[63] Altizer T. Eternal Recurrence and Kingdom of God // The New Nietzsche: Contemporary Styles of Interpretation. N.Y., 1977. P. 239.
[64] Ницше Ф. Воля к власти. С. 127.
[65] Там же. С. 110.
[66] Там же. С. 141.
[67] Ницше Ф. Воля к власти. С. 134.
[68] Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 635.
[69] Там же. С. 690-691.
[70] Ницше Ф. Воля к власти. С. 138.
[71] Там же. С. 141.
[72] Делёз Ж. Указ. соч. С. 301.
[73] Там же. С. 298.
[74] Там же. С. 300.