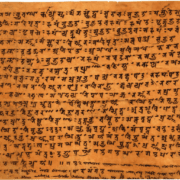Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие;
Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие;но тут же заключалось и что-то такое,
что было мучительно-действительное и
страдальчески-справедливое, что
оправдывало и сон, и кошмар, и безумие.
Ф. М. Достоевский
«Идиот»
Двойственность не бывает радостной. Нерадость воспринимается как наслаждение. Наслаждение чистым творчеством, пограничным творчеством – на стыке существования и безумия. Существование и безумие не противоположные величины, рвущие, раздирающие личность. Они обе направлены в творчество, в глубины моего Я. Сложно вообразить гениального мыслителя со здоровым, не раненым сознанием, сознанием спокойным, уравновешенным, стандартным. Гений – безумен, и иногда, он целенаправленно вводит себя в придельное существование, существование запредельное. Жизнь творца встречает противоречия с существованием. Хотя такое происходит далеко не всегда, не являясь условием гениальности. Гениальность условий не имеет, им не подчиняется. Истинный мыслитель – гений, истинное творчество – гениально. Кто же в таком случае не истинный мыслитель и что такое не истинное творчество? Не истинный мыслитель – ремесленник, его мысли тривиальны, его истинность относительна. Не истинное творчество – творчество паразитическое, поддельное, повседневное. Лишь условно возможно говорить о такого рода практике как «творчество», о таких людях как «мыслители». Взглянем на безумие экзистенциально-феноменологически, исходя из диалогического опыта автора, С. Есенина, С. Франка.
Можно ли успокоить движение повседневности, примирив жизненный поток с мыслительными конструкциями разума? Творчество рождается из травмы. Оно травматично по своей сути. Искренняя травма, травма непреодолимая, благостная травма. Даже в условиях приближенных к идеальным, если таковые представимы, найдутся личности не то чтобы несогласные с устоями общества, но не согласные, в первую очередь, с собой. Несогласие с собой выступает начальным толчком к творчеству, к созиданию. Примечательно, что созидание, например, текста, сопровождается медленным разрушением автора. Борьба с ветряными мельницами стоит слишком дорого. Духовное равновесие навсегда нарушено. И тот, кто желает посвятить свою жизнь творчеству (стать спаянным с ним), должен четко осознавать, что его личная жизнь окажется под угрозой, как физического уничтожения, так и экзистенциального. Противоречия жизни, творчества и мысли, все ярче проступают с каждой написанной строчкой. Нельзя сотворить что-то гениальное не принеся в дар творчеству, в ущерб жизни себя. При этом ближние непременно пострадают. Возникает противоречие: стоит ли творчество слез ближних? Нужно ли запускать механизм ответственности или же это пустая трата времени? Порой ответственность бывает полезной, для человека не тонущего в творчестве, она необходима. Утопающему ответственность без надобности, или же иначе, для него она представляет собой выбор и далеко не всегда выбор падает на ответственность. Если мыслитель будет постоянно вовлечен в ответственность, то в один прекрасный момент ответственность его захватит, исключив из свободы. Но это не означает, что мыслитель не переживает за судьбу другого человека. Скорее творчество, питаемое личной травмой, подпитываясь травмами других, не зацикливается на ограничителях (этических, эстетических, религиозных). Ведь ответственность феномен «рамочный», – рамок может быть несколько, каждая со своими особенностями, предпочтениями. Подстраиваться под каждую занятие бессмысленное.
Передвигаясь по ограничениям/ограничителям, творец собирает идеи, пропуская их через себя, преобразовывая их в текст (музыкальное произведение, картину). Будучи в жизни, он созерцает ее со стороны, находясь все время в подвешенном состоянии, уже даже не на краю бездны, небытия, а в свободном падении внутри их. Вопрос сводится к тому, как скоро дно? Что такое дно? Вопрос не времени, а понимания. Понимания того, что мысль нужно остановить. Наступает момент, когда приходит осознание – кардинальные изменения в культуре, обществе в принципе невозможны. Практически с самого начала творчество становится неимоверно абсурдным. В абсурде мыслитель (композитор, художник) творит и живет. Понимая, что ничего изменить нельзя он, тем не менее, пребывая в творчестве, создает концепты, умножая печаль и даря радость.
Двойственность присуща творцу изначально. Уточним, что в настоящем контексте внимание сосредоточено на творческой личности, и не рассматриваются клинические случаи шизофрении, но стоит помнить о шизоидности современной культуры, описанной Ж. Делезом и Ф. Гваттари. Итак, изначальная двойственность, между творчеством и жизнью, существованием и смертью – теплится в личности с самого начала ее исканий, проб, опытов. Как только она входит в существование, двойственность начинает пульсировать во всю силу. Нет четкой уверенности в том, насколько она положительна или отрицательна. Гениальность не имеет качественных характеристик. Во всяком случае, их сложно ей приписать. Необходимо обрести смирение и творить, покуда двойственность не поглотит личность. Что последует потом? Либо физическая смерть, самоотвод. Либо абсолютно новый виток творческого подъема, последний виток. В этом отношении показательно творчество С. Есенина. В поэме «Черный человек» (1925) изображено чистое творчество, чистое безумие, чистое наслаждение, чистое существование.
Становится ли раздвоенная творческая личность прозрачной? Раздвоенность не знает потери смысла. Прозрачность не означает его жертвенное приобретение. Прозрачность – нечто, не требующее к себе жалости, но вызывающая жалость у ближних. Иногда жалость продуктивна, когда речь идет об исповедальности, когда творец вступает в откровение, приоткрывая свою экзистенцию. В такие минуты он нуждается в слушающем ближнем, внимающем ближнем, сопереживающем ближнем. И в такие минуты загорается разделенное существование. Личность исповедуясь передает элементы, лучи своей экзистенции ближнему на хранение. Ближний становится «моим ближним». Перед его лицом я – прозрачен, обнажен. Трудно предугадать, сдержать уровень прозрачности и обнаженности. Возникает желание полноты откровения, ведущее к полноте прозрачности, обнажению. В одночасье полноту лучше не демонстрировать, взваливая на моего ближнего ответственность за меня, нужно передавать себя дозировано. Полное откровение неизбежно. Важно не потерять откровение после того, как оно обрело полноту. Задача не из легких: после напряженного откровения найти, встретить повседневность. Повседневность остужает. Включается моя ответственность за ближнего. Откровение не должно уничтожить в нем его откровение ко мне. Взаимное откровение. Осторожная ответственность.
Подобное откровение полностью не вкладывается в рамки пространства. Отведя взгляд от ближнего, я также перестаю быть прозрачным. Перед толпой и перед незнакомцами творческая личность не прозрачна. Она исполнена смыслом, но она не приобретает откровение Другого, смысл Другого.
Мышление продолжается даже тогда, когда перестает существовать субъект мышления. Некое развитие идей Платона. Я мыслю – не существуя. Существование вне сущности. Существование не является условием мышления. Мышление связано с существованием, ибо в существовании оно по-настоящему раскрывается. Когда субъект исчезает, начатое им мышление длится. Жизнь и существование не противопоставляются. Парадокс: сущности, личности, человека нет, а его мышление остается. Причем такое мышление не законсервировано, не стоит на месте, но творит смыслы. Речь идет о сохраненном, зафиксированном (и свободном) мышлении. Сохраненное, зафиксированное мышление – текст (музыкальное произведение, картина). Текст написан, текст прочитан, т.е. материально уничтоженный текст, остается, в той или иной форме, в сознании и затем непременно всплывет, может не напрямую, а косвенно, опосредовано. Мы можем сказать, что существую не-Я, существует мое мышление, текст, творчество. Но не является ли мышление, текст, творчество – мною? Процесс не останавливается, создаются новые концепты. Диалог, как разделенный логос, не прекращается. Естественно фигура творца нагружается коннотациями, стираются черты его личности, он превозносится (как правило) или его роль преуменьшается, вокруг него создается ореол недоступности. Между тем, все указывает на существование вне сущности, в диалогичном, разделенном существовании. Существование вне сущности таится в откровенном творчестве. Откровенное творчество истинно, только такое творчество и достойно им быть. Если отсутствует откровенность, если текст не приоткрывает откровение читающего и не дарит откровение творящего – то имеет место пародия, пустой пастиш. Часто такая пародия выдается за истинное творчество и за счет эпатажа, простоты имеет успех. Кто создает подобные тексты? Неуверенные в себе люди, у которых либо нет откровения, либо они не готовы с ним делиться. В таком случае творчество не искренно, оно не дает возможность обнаружить в себе нечто иное. Удовлетворяя потребность в чтении, оно напрочь убивает тягу к обнаружению смысла. Если же читатель не открывает себя заново, или же не просвечивает себя и в итоге не начинает существовать – то такой автор не существует после утраты сущности, не мыслит. Он просто живет. Он такой же как и читатель. Его читатель – временный, закавыченный, не способный преодолеть дискурсные рамки уже созданные и тем более создать свои. Усредненное бытие, на одном месте, в одной точке. Речь не идет о пространстве. Автор (мыслитель) и читатель могут быть мобильными, и скорее всего они таковыми и являются. Иллюзорная мобильность: при физическом перемещении и запоминании данных, интеллектуальное, экзистенциальное перемещение не происходит. Накопление, бытовое запоминание впиваются в сознание. Искоренить их не так-то просто. Стереотипы. В итоге современные общества – превратились в общества фасадного накопления, и накопления не одних только данных. Так же точно накапливается и присваивается любовь, счастье – замкнутые в пространстве, замкнутые во времени, закавыченные, пародийные. В определенной степени происходит перманентная игра, такая, какой она описана Й. Хейзинга. Предположим, что для Й. Хейзинга игра везде и со всеми, имела более негативную окраску. Выход из игры маловероятен. Примечательно, что в современном обществе, отсутствие выхода воспринимается как норма, как «так и должно быть». Единственное, что немного выручает человека в подобной ситуации – вера. Наталкиваемся на противоречие: вера (религиозная) направлена к трансцендентному; вера постчеловека не имеет направленности. Вера вне существования – декорация, легко собираемая и разбираемая. За веру прячутся, ищут в ней защиту – пассивная вера, без внутренней работы над собою. Игра продолжается.
Раздвоение, безумие сочетается с разрушительными и созидательными факторами творческой личности. Нет гения, не вступившего в диалог с безумием. Безумием, в котором сгораешь быстро, безумием, в котором пребываешь годы. С. Есенин сгорел быстро. Творчество и безумие настолько в нем сроднились, что черный человек стал такой же реальностью как и белый. Белый человек – не назван в поэме, белый человек – не противоположен черному. Белый человек – черный человек в потенции, перспективе. Осторожно скажем – сам автор какое-то время был белым человеком, но его жизнь, по сути, закончилась черным человеком в отображении разбитого зеркала. Насколько автору близок черный человек? Скорее уместно поставить вопрос несколько иначе: могло ли черного человека не быть? Его появление неслучайно, отчасти прогнозируемо. Возможно, здесь слышатся нотки фатализма. Однако выбор отсутствует, когда речь начинает заходить о существовании в безумии. Раздвоение исходит из одной точки, двумя линиями. Должна быть изначальная точка отсчета, которая затем снова сходится, иногда в ту самую изначальную точку. Схематично тезис напоминает геометрическую фигуру – ромб.
Изначальная точка – точка физического рождения, безболезненной/малоболезненной жизни и начало расхождения/существования (демаркация понятий жизнь и существование). Причиной расхождения служит пограничная ситуация, точно описанная К. Ясперсом. Две точки расхождения – экзистенция меня и экзистенция меня Другого. Что и называется безумием. Точки расхождения мучительны. Отсюда муки творчества. Происходит понимание и попытки борьбы со мною Другим. Творчество характеризуется своей крайностью, беспокойностью, напряженностью, спутанным авторством. Попытками заместить творчество иными практиками, попытками получить удовольствие от жизни. Не совсем ясно различаются черты мыслителя написавшего произведения: я или я-Другой. Со временем приходит осознанное наслаждение (сравнимое с представлениями Р. Барта) безумием. И тогда точки раздвоенной экзистенции сходятся. Импульсом выступает повторная пограничная ситуация, момент встречи лицом к лицу со мною Другим. Творчество становится абсолютно невинным, личность прозрачной, восприимчивой. Обозначим такое состояние латентным торможением – счастье Другого, меня Другого и для него Я – первостепенно. Мое счастье вообще не имеет значения. Не углубляясь в биографию С. Есенина, становится ясным, что поздний период его творчества просто наполнен наслаждением безумия, латентным торможением. Это уже не крайности, не прощупывание почвы, а бег в творчестве с закрытыми, завязанными глазами по оживленному шоссе. Черный человек тому пример. Нельзя выдумать черного человека, нужно им быть, сойтись с ним, примирится с ним, и он должен примириться со мною. Когда он садится на мою кровать, на мою постель – слышится ее шорох, спокойный сон – пропадает, разум закипает, его не сдержать, конечности не слушаются:
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица,
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.
(С. А. Есенин «Черный человек»)
Слышно гнусавый, неприятный голос меня Другого, исповедующегося передо мною:
…гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь…
(С. Есенин «Черный человек»)
Слышно падающие осколки разбитого зеркала. Разбитое зеркало – высшее проявление безумия, полное с ним согласие:
Я один…
И — разбитое зеркало…
(С. Есенин «Черный человек»)
Подобную позицию российский мыслитель С. Франк выразил в формуле «и то, и другое», концепции мы-бытия. Мыслитель утверждал: «О непостижимом можно только высказать, что оно одновременно есть и B, и не-B, и, с другой стороны, что оно не есть ни B, ни не-B»[1]. Для того, чтобы приблизиться к пониманию сути раздвоенного безумия, необходимо постараться выйти за приделы меня и меня Другого (которые создают антиномии), за приделы борьбы/начала «или-или»: «К существу непостижимого мы приближаемся через преодоление этого начала, сначала через посредство принципа «и то, и другое», а потом – еще более интимно – через посредство принципа «ни то, ни другое» (а наиболее адекватно, впрочем, лишь через совмещение обоих этих последних принципов – через преодоление отрицания)»[2].
В принципе идея антиномистического монодуализма была выражена С. Франком в концепции мы-бытие. Спроецируем концепцию мы-бытия в плоскость безумия. Мы-бытие – наслаждение безумием: в этическом срезе (латентное торможение), в эстетическом (поэма «Черный человек», оконченная незадолго до смерти С. Есенина). Согласно С. Франку мы-бытие – единство, существующее до разделения целостности на Я и Ты, в последствии Я и Ты соединяются в Мы. Другими словами Я и Ты две единичности соединяющиеся в целостность Мы, изначально из нее происходящие. Что соответствует цепочке: «покой – позыв – разделение, безумие – примирение, латенция». Проекция Я-Ты в сторону экзистенции меня и меня Другого, естественно прямо не следует из текстов С. Франка, но они располагают к такому размышлению. По сути, мы имеем дело с попыткой выразить на языке понятий непостижимое (то чем, собственно, и занимался С. Франк в работе «Непостижимое»). Безумие выступает ни чем иным как самораскрывающейся реальностью, безумие скрыто в тайне личности. Заметим, что работу «Непостижимое» С. Франк написал в очень сложный для себя период жизни, и, конечно же, работа хранит в себе безумие.
Буквально безумие – «без-ума». Если «без-ума», разума, тогда что? Что остается, когда разум не работает? Чувства? Согласимся, однако, одних чувств недостаточно. Инстинкты? Тоже недостаточно. Хотя многое зависит от чувств и инстинктов и в состоянии безумия эти моменты раскрываются еще сильнее. Возможно есть нечто за пределами разума, чувств, инстинктов? «Без-умие» – не отсутствие ума, а особое его состояние. Отсутствие самого отсутствия, или отрицание отрицания. Входим в пространство апофатики: «О каких бы логически уловимых противоположностях ни шла речь – о единстве и множестве, духе и теле, жизни и смерти, вечности и времени, добре и зле, Творце и творении, – в конечном итоге мы всюду стоим перед тем соотношением, что логически раздельное, основанное на взаимном отрицании вместе с тем внутренне слито, пронизывает друг друга – что одно не есть другое и вместе с тем и есть это другое, и только с ним, в нем и через него есть то, что оно подлинно есть в своей последней глубине и полноте»[3]. Наслаждение безумием во всей своей полноте рационально не выразимо, но автор все же оставляет нечто – литературное произведение, музыкальное, художественное. Оставляет нечто ни ему, ни читателю/слушателю/созерцателю, до конца непостижимое. Творение истинных произведение автоматично, непроизвольно. Поэму «Черный человек» нельзя написать по заранее разработанной схеме (речь не идет о стихотворном размере), в спокойном состоянии, усевшись за стол и размышляя о двойнике. Экзистенция меня Другого обязана была появится в комнате С. Есенина, говорить с ним, напоминать ему. Состояние откровения перед ним, перед собою. Состояние страха.
Смерть – тупик жизни, жизнь – тупиковое, придельное бытие. Существование – трансфинитно. Приделом поэмы «Черный человек» является брошенная трость, миг броска, готовность совершить поступок броска:
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу…
…Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
(С. Есенин «Черный человек»)
Прямое, буквальное истолкование поэмы в самом деле работает. Безумие, увиденное напрямую и косвенно единовременно, что значит: трость брошенная автором – трость брошенная его Другим. Смерть месяца – не его ничто, не наступление вечного дня. Рассвет лишь синеет. Смерть месяца – светлая печаль (С. Франк), ночь без противоположности дня, ночь противоположная месяцу. Разбитое зеркало, перед ним некто в цилиндре:
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
(С. Есенин «Черный человек»)
Концепт Я, еще не означает что перед нами сам автор, так как в начале поэмы автор был в иной позиции. Кто в цилиндре (помня, что более в комнате уже никого нет)? Автор? Его Другой? Перед зеркалом расщепленная-целостная-нераздельная-неслиянная-наслаждающаяся безумием личность. Наслаждающееся безумием творчество. Внешне – я-Другой, внутренне – Я, не-я-Другой и не-Я.
В. С. Мирошниченко
г. Харьков (Украина)