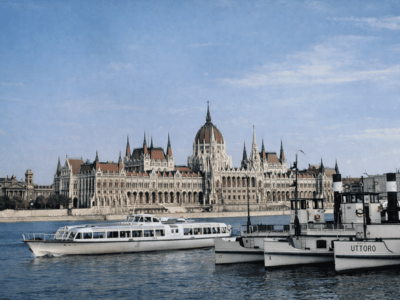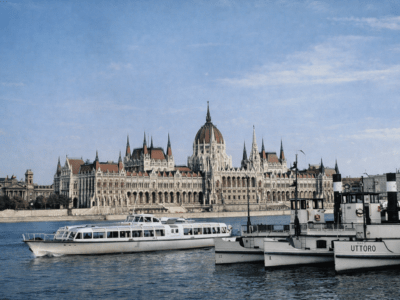Метафизика пошлости
Посвящаю эти размышления Елизавете Левенцовой,
Моей Спасительнице из плена пошлости мира сего
Пошлость в искусстве
Русское слово «пошлость» загадочно и непереводимо. Для примера, Владимир Набоков настолько затруднялся с переводом этого слова для американцев, что в конце концов так и писал его английскими буквами – «Poshlust’»[1], как нечто исключительно русское. Другой пример — старый, при каждом удобном случае упоминаемый диалог Платона «Пир», в котором автор разделяет страсть на «небесную» и на «пошлую». Само слово, употребляемое Платоном в оригинале (???? ????????), настолько сложное, что перевести его можно и как «всенародная», и как «гражданская», и как «низменная» страсть, и как угодно еще, в зависимости от контекста, в котором переводчик хочет интерпретировать текст диалога[2]. Прекрасным и хитрым ходом была замена иностранного непереводимого слова русским словом, настолько же сложным, настолько же многомерным и, как кажется, обозначающим нечто приблизительно то же самое: общее для всех свойство, наделенное уничижительным оттенком. Впрочем, такое определение ведь вовсе не объясняет, что имеет в виду человек, когда говорит, что нечто несет в себе пошлость, а нечто другое — нет. Что такое пошлость в искусстве и какое понятие можно использовать как ее смысловой оппозит (то есть, что в искусстве пошлым не является) — вот вопрос, попыткой дать ответ на который является эта статья.
Сложность выяснения того, в чем заключается пошлость некоего произведения искусства, связана часто с той особенностью, что эта самая пошлость подменяет себя теми или иными внешними характеристиками этого произведения, оставаясь при этом скрытой, непознанной. Для наблюдателя, согласного принимать маску за ее носителя, пошлым становится всё, связанное с кругом определенных тем: так, если воспользоваться примером кино, проявлением пошлости может считаться наличие в художественном фильме порнографических сцен, нецензурной лексики и проч. «Какая пошлятина», — скажет возмущенный сноб и отвергнет предложенное ему произведение искусства. Однако, разделив весь мир на пошлые (а в этом случае — неприличные) и не-пошлые (приличные) явления, мы теряем сам принцип, позволяющий провести такую черту: происходит подмена и дух пошлости ускользает сквозь наши пальцы, оставляя в наших руках одну из своих пустых личин. Очевидно, что одно и то же явление может рассматриваться как проявление пошлости в одном контексте, и как совершенно приемлемое произведение искусства — в другом. В связи со сказанным, хотя между пошлостью и неприличием существует некоторая связь, эти понятия вовсе не тождественны. Искусство вполне может демонстрировать предметы, демонстрация которых табуируется обществом, ведь зритель и даже сам творец всегда отделены от мира искусства гранью, не позволяющей последнему стать реальностью. Так, никто из зрителей не бросается на помощь Цезарю, когда на сцене его убивают сенаторы — при этом, в каждом обществе убийство человека запрещено и публично может осуществляться разве что государственной властью, в назидание гражданам. Аналогично, до какой-то степени, искусство предоставляет творцу больше свободы относительно других частично табуированных обществом предметов. «До какой-то степени» — потому что и здесь есть границы, за которые творцу не позволено выходить, чтобы дух пошлости не завладел его творением и не превратил его в свою очередную личину. Так, например, очень тонка грань между изысканной эротикой и грубой порнографией, и как только эта грань переступается, как, например, в случае скандального «Калигулы» Тинто Брасса, нечто претендовавшее на статус прекрасного становится пошлым и неприятным: искушенная публика сразу определяет пошлятину, хотя зачастую и не может выразить словами, в чем она заключается.
Многих деятелей современного искусства граница между мирами пошлого и не-пошлого очень раздражает: они предпочитают ее не замечать, чтобы чувствовать себя свободными от любых условностей. Под знаком такой свободы консервировал собственные отходы жизнедеятельности художник-концептуалист Пьеро Мандзони для выставки «Дерьмо художника». Сегодня среди подобных одиозных творцов современных произведений искусства можно выделить очень многих знаменитых людей: от художницы Мило Моире или Доктора Смерти фон Хагена до режиссеров Ларса фон Триера и Квентина Тарантино. Современное искусство пытается наиболее ярко показать себя, потому так популярен жанр перфоманса, предоставляющий огромные возможности для самовыражения. Так, еще Юкио Мисима выражал сомнение по поводу бессмысленных социальных запретов: «Что же бесчеловечного в уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку – грациозно, словно переворачивая лепесток розы, – и подставить их сиянию солнца и дыханию майского ветерка…»[3]. В какой-то степени он был прав: нет ничего отвратительного или неприемлемого в любом явлении человеческой жизни, однако всё зависит от уместности и интенсивности выраженности такового. Ведь в действительности, любое творчество — это самовыражение, и современные перфомансы представляют собой не нечто принципиально новое, но творчество, доведенное до чрезмерно высокой степени интенсивности. Так, когда в самовыражении человек пересекает допустимые пределы хорошего вкуса, он теряет органическую связь со всем миром, превращаясь в «кричащее» исключение. И тогда его поведение воспринимается не как искусство, но как хулиганство, издевательство — или же, если посмотреть на ситуацию более отвлеченно — как низкопробная пошлость. Для примера, закрывать свои фекалии в баночке и продавать их на выставке, как делал Пьеро Мандзони — это низко и пошло. Перфоманс как разновидность современного искусства помогает лучше понять, что такое пошлость в искусстве в целом.
Еще в середине ХХ века итальянский мыслитель Юлиус Эвола чувствовал, как мир постепенно опошляется и скатывается от пения к крику. Так, в одном из своих эссе он обратил внимание на популяризацию крепких напитков (в частности, виски) и частичное вытеснение ими вина как напитка более изысканного и требующего тонкого вкуса. Эвола связывал эти процессы с деградацией культурных запросов человечества[4]. Если обратиться к работе Карла Кереньи «Дионис: Прообраз Неиссякаемой Жизни», в которой автор выделяет в античной мифической истории человечества три основных этапа, связанных с алкогольными напитками, можно заметить близость взглядов Эволы и Кереньи. Так, сначала человек не нуждался ни в каких опьяняющих веществах, так как был способен общаться с богами напрямую. Деградируя, человек все больше закрывался от мира, и отец богов и людей Зевс дал человечеству первый алкогольный напиток — перебродивший в бычьей туше мёд. Когда человек огрубел еще больше, его напоил своей кровью (вином) сын Зевса — Дионис[5]. Когда Юлиус Эвола пишет о постепенном переходе от вина к виски, соответствующие тенденции можно заметить во всех сферах общественной жизни, в том числе и в искусстве: деградировавшие люди хотят, чтобы их удивляли, шокировали, потрясали, приводили в ужас и смешили до смерти. Проблема здесь заключается в том, что слишком интенсивно выраженное произведение искусства не может рассматриваться как гармония некоторых элементов, а также как гармоничная часть мира — ведь так же и мёд с вином отличаются от виски тем, что первые два напитка освящены богами, последний же создан людьми как попытка создать нечто еще более опьяняющее. Если привести аналогию из области кулинарии, небольшое количество перца подчеркивает вкус, но когда перца слишком много, чувствуется лишь острота, портящая всё блюдо. Аналогично, когда восходит солнце, звезды никуда не исчезают с неба, но солнечный свет настолько интенсивен, что затмевает любые другие источники света. Обращаясь к современному искусству, можно заметить, что оно в большинстве своем напоминает такое переперченное блюдо: к примеру, большинство современных фильмов базируются на сценах развратного секса и красочных смертей, которые должны «протащить» фильм, заинтересовав, возможно, даже шокировав зрителя. Современная музыка, очень громкая и с неизменным ритмом, который словно гипнотизирует слушателя, заставляя его проникнуться механическим духом постиндустриального мира, также в той или иной мере преследует лишь одну цель: шокировать. То же самое можно сказать и обо всем современном искусстве в целом: оно целенаправленно шокирует и возбуждает людей, не брезгуя никакими средствами.
Такая целенаправленность уже подчеркивает ориентированность современного искусства на публику, которая будет за него платить. Последняя фраза в предисловии Оскара Уайльда к «Портрету Дориана Грея» показывает разницу между искусством и перфомансом: «Всякое искусство совершенно бесполезно»[6]. В этом не может быть никакого сомнения, именно потому человек, который целенаправленно пишет стихотворение, называется не поэтом, а графоманом. Издревле творчество связывается с божественным началом — античные греки верили в то, что человек может творить только благодаря божественной помощи, благодаря близости к богам. В христианстве же прямо утверждается творческая способность человека как элемент образа и подобия Бога, наложенного на человека Творцом Вселенной. И греческая, и христианская традиции упоминают тех, кто пытался творить не в соответствии с божественным вдохновением, а ради достижения определенной персональной цели: Гесиод упоминает титанов и разнообразных чудовищ, нарушающих гармонию космоса (если пользоваться пифагорейской терминологией), Библия же первым творцом-безбожником называет Сатану, который начал преобразовывать мир в соответствии со своей злой волей разными доступными ему путями (Ин. 8:44). Общим здесь является одно: оппозиция подчиненного персональной цели и боговдохновенного творчества, первое из которых осуждается как разрушающее целостность мира.
Однако, вернемся к сказанному прежде: разве не о гармонии уже говорилось, когда речь шла о крикливости современного искусства как дисгармонии деталей одного произведения? Теперь та же самая проблема выражается с большей полнотой, показывая дисгармонию мира как результат утилитарного творчества, осуществляемого без вдохновения. Если человек обладает ощущением гармонии (то есть, вкусом), он легко может узнать пошлое, дисгармоничное, то, что находится не на своем месте, крикливое, слишком интенсивно выраженное — узнать и отличить от гармоничного, а потому прекрасного. Ведь пошлость это всегда несоответствие предмета обстановке, которая его окружает — при этом, именно несоответствие по причине слишком мощной интенсивности. Если обратиться снова к Гесиоду, само наименование противников богов — «титаны» — этимологически связано с глаголом “???????”, что значит “натягиваю” (например, тетиву лука), причем Гесиод подчеркивает, что так называл своих детей Уран, обвиняя их в богохульном преступлении против отца[7]. Низверженные в Тартар противники богов, учредителей вселенской гармонии и красоты, греческие титаны могут считаться величайшими пошляками античного мира. Аналогично дело обстоит и с противником Бога Сатаной, который постоянно пытается выглядеть великим, для чего всячески «обманывает» и «похваляется» (своеобразный метафизический перфоманс), в чем его можно уподобить и греческим пошлякам-титанам. Великолепно заметил Дмитрий Мережковский в своем очерке о Николае Гоголе, что «черт — нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин — вечная плоскость, вечная пошлость»[8]. При этом, «Главная сила дьявола — умение казаться не тем, что он есть. Будучи серединой, он кажется одним из двух концов — бесконечностей мира, то Сыном-плотью, восставшим на Отца и Духа, то Отцом и Духом, восставшими на Сына-плоть; будучи тварью, он кажется творцом; будучи темным, кажется Денницею; будучи косным, кажется крылатым; будучи смешным, кажется смеющимся»[9]. Так, пользуясь хоть античной, хоть христианской системой символов, можно сказать, что явление, понимаемое под русским словом «пошлость» обозначает не что иное, как несоответствие общей упорядоченности Вселенной, возникающее по причине желания отдельной части мира возвыситься над Целым, «выкрикнуть» себя, показаться ярче и значительнее, чем весь мир, при этом оставаясь лишь его частью. Смысловым оппозитом пошлости на объективном уровне выступает гармония, а на субъективном — смирение, то есть духовный реализм, адекватное понимание своего места в общем устройстве Вселенной. Для того, чтобы определить пошлость, достаточно иметь чувство вкуса, гармонии; для того же, чтобы творец искусства свернул с тропы пошлости, ему следует отказаться от популярного сегодня утверждения своей мнимой самодостаточности, и от монолога перейти к диалогу. Однако, речь идет не об обращении к социуму, потому что большинство людей не могут быть носителями тонкого вкуса. Человек-творец должен войти в контакт с Богом-Творцом, и тогда у него уже не будет никакой потребности заявлять о себе пошлым криком. Ни личные цели, ни социальный заказ, но только божественное вдохновение может быть источником действительно прекрасного творчества, не имеющего ничего общего с пошлостью титанов и дьявола — ведь и само современное слово «гений» указывает на божественность таланта («талант» же — отсылка к притче Христовой о Господине и рабах). Похожая мысль прекрасно выражена в первой римской оде Горация[10]:
Противна чернь мне, чуждая тайн моих,
Благоговейте молча: служитель муз —
Досель неслыханные песни
Девам и юношам я слагаю.
Пошлость как эстетическая сторона греха
Пошлость – одно из самых загадочных понятий русской эстетики – именно в силу своей исключительной русскости, отсутствия конкретного денотата, тотальной непереводимости. И в силу упомянутых качеств, понятие пошлости привлекает внимание исследователей русской духовности. Философской интерпретации понятия пошлости в светском искусстве мы посвятили отдельную работу[11] – ее результатом стало неизбежное объяснение рассматриваемого понятия через призму мнимой оппозиции Бога и дьявола. Неизбежным такой исход был потому, что Русская земля никогда не была исключительно светской: начиная с князя Владимира Крестителя, заканчивая сегодняшним днём – это государство по примеру Византии всегда включает в себя Православную Традицию, симфонически переплетенную со светским миром. В рамках русской культуры, возможно, сложнее всего было бы отделить искусство от Православного контекста, если бы кому-то пришло в голову это сделать. Безусловно, нашей задачей является прояснение значение русского понятия пошлости в его полном спектре – для этого мы обязаны прибегнуть к анализу его через призму Православного символизма.
Русские мыслители, чей мысленный взор обращался к данной проблеме, единогласны в том, что слово «пошлость» имеет всегда негативное значение. Особо важной в данном отношении является посвященная пошлости отдельная глава «Аксиом религиозного опыта» И. А. Ильина, где пошлость рассматривается как неспособность видеть божественный аспект мира, внимание к незначительным деталям и постоянное упущение средоточия смысла[12]. Однако же, Ильин говорит о пошлости в первую очередь как отношении человека к миру, Ильина, в рамках его исследования религиозного опыта, пошлость интересует в качестве гносеологической установки. Потому, в своем блестящем анализе Ильин раскрывает лишь одну из граней пошлости, не ставя перед собой в качестве задачи более глубокий разбор этого явления. В свою очередь, мы интересуемся в большей степени пошлостью как поведенческой, а не гносеологической установкой. В Православной традиции, человеческая жизнь символически представляется как возможность движения по одному из возможных путей, иными словами – поведение человека в Православии выражается через пространственные образы. По этой причине, мы попытаемся проанализировать пошлость через Православный пространственный символизм.
Жизнь Православного праведника – это постоянное духовное движение – отсюда происходят слова «подвиг» и «подвижничество». Таковое движение можно понимать, к примеру, через призму ветхозаветного образа Лествицы Иакова, использованного Иоанном Синайским в его «Лествице» для яркого пространственного выражения духовного пути на Небеса. Так, если праведник поднимается в Небеса, то греховное деяние приводит к падению (грехопадению), то есть свержению с Небес в бездну (в случае падших ангелов, к примеру). Более того, когда праведник стремится достичь Небес, то дьявол, князь воздуха, пытается воспрепятствовать ему, создавая таким образом разнообразные затруднения на пути. Таким образом, здесь имеет место быть вертикальное движение с яркой этической окраской: грех низводит, праведность возводит.
Для целостной картины нужно добавить еще несколько деталей: Христос говорит о том, что к Богу ведет узкий путь, а путь погибели широк (сам Христос и есть Этот Путь). Следовательно, в Православном пространственном символизме, конечной цели Пути должны соответствовать не Небеса в целом, но конкретный пункт (поскольку логично, что на Небеса в целом можно было бы вертикально подняться любым путем). Здесь важно упомянуть иконографический символ Всевидящего Ока: Бог аллегорически изображается как умное солнце, и, таким образом, именно это «солнце» является главной целью христианина, приобщение к которому по благодати и является собственно святостью: святой человек пребывает в Божественном свете и, таким образом, достигает совершенства. На этом подвиг заканчивается.
Разобраться вкратце с символизмом подвига было для нас необходимо, чтобы сконструировать приблизительную целостную картину Православного символического пространства: через подвиг мы можем понять, что такое грех. Собственно, по-гречески, грех (???????) значит «промах», и, в частности, промах стрелы мимо мишени. Таким образом, изначально понятие греха имеет абсолютно пространственную коннотацию. «Грех есть добровольное отступление от того, что согласно с природой, в то, что противоестественно (противоприродно)», как замечает св. Иоанн Дамаскин[13]. В контексте пространственного символизма, грех – это реализация свободы человека для избрания любого из путей, кроме того единственного, который ведет к Богу, к спасению. Грех как отклонение от своего предназначения, обладает самым широким спектром значений, ни в коем случае не ограничиваясь лишь сферой этики. Так, начав с упоминания пошлости в качестве именно эстетического понятия, мы возвращаемся к ней, но теперь уже в качестве эстетической стороны греха как самого широкого понятия, выражающего ошибку в рамках пространственного символизма Православной Традиции.
Действительно, в нашем исследовании, посвященном пошлости в искусстве, мы пришли к выводу: центральной характеристикой пошлости является повышенная интенсивность явления, называемого пошлым. Упомянутый Ильин[14] прекрасно подчеркивает, что Бог не создавал ничего на свете пошлым, но лишь человек может «опошлить» то или иное явление мира путём отрицания Бога. Что касается пространственного символизма, то пошлость греха проявляется в том, что Бог является абсолютно динамичной целью, к которой стремится подвижник. Ярким примером такого движения является символически выраженное преследование невестой-душой жениха-Бога в Песни Песней царя Соломона (в трактовке Григория Нисского). Цель подвижничества, идеал Христианства, в отличие от неподвижного кумира, каковым, к примеру, был золотой телец, Ваал или Перун, является абсолютным могуществом, живым Богом. Его невозможно достичь, постоянно придерживаясь лишь одного маршрута: такая узкая направленность, визуально являясь оппозитом блуда, ничем не лучше, чем сам блуд, поскольку и одна, и второй – это крайности, отрицающие восприимчивость подвижническую, называемую «духовным деланием» (ставя в центр Православия именно духовную эстетику вместо этики, отец Павел Флоренский, кстати, интерпретирует понятие «?????????» как «Любокрасие», а не «Добротолюбие», как это принято). Фактически, пошлость и является отрицанием духовной красоты Вселенной, возникающим в результате непонимания динамичной сущности Бога как цели человеческой жизни – летящей стрелы, промах которой в финале означает погибель. Здесь следует вспомнить и постоянный спор между Птолемеем и Коперником: конечно же, второй из них создал более удобный метод вычисления движений небесных тел, но именно на основе системы Птолемея основывается Православный символизм в той степени, в которой Бог выражается через Умное Солнце[15]. Так, Бог, как и солнце Птолемея, подвижен – постоянно подвижен, и совершенно неуловим, если только преследующий Его не обретет Путь Истинный – Сына Божьего, соединяющего тварь и Творца.
Ярким подтверждением понимания пошлости в качестве эстетической стороны греха является пример юродивых: ни одного их таковых невозможно назвать пошляками, хотя и известны их совершенно нетипичные для всеобщей поведенческой конвенции поступки, описанные в многочисленных житиях начиная с Исакия Печерского. Так, пошлость является смысловым оппозитом не мирской, а именно духовной, божественной, абсолютно динамической, абсолютно живой красоты, свойственной всему миру в непроявленном для духовно невосприимчивого созерцателя виде – ею же наделены отчасти подвижники, абсолютной же полнотой ее обладает Сам Господь Бог.