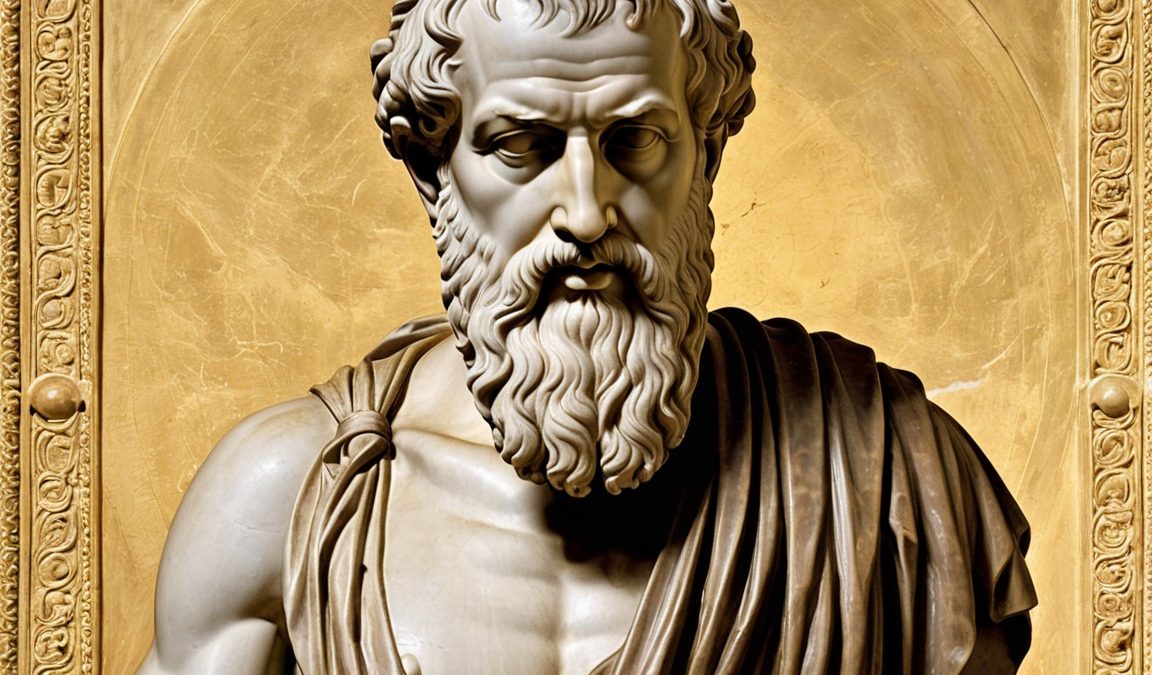Глубина этического вопрошания героев великого русского писателя на десятилетия определила вектор философско-этического дискурса мировой интеллектуальной мысли, вдохновляя творчество таких философов как Ф. Ницше, М. Хайдеггер, А. Камю, Р. Жирар и др. Мартин Хайдеггер определил «этику» как «способ пребывания человека посреди сущего в целом», как умение поддерживать своё отношение к способности хранить или терять свой устой собственного самопребывания в бытии. Человеческий ηθοξ, согласно немецкому философу, определяется двояко: 1) он не является автоматически заданным, а требует постоянного решения; 2) это решение должно выноситься на основании понимания сущего в целом или словами Достоевского – через разрешение проклятых вопросов бытия.

Этика, онтология и жанр «романа» — что является концептуально-образующим каркасом данного треугольника? По мысли венгерского философа Д. Лукача роман – поле реализации диалектического противоречия между этическим и онтологическим, где контингентная онтология бессмысленно-фрагментарного мира сталкивается с попыткой её деонтологического осмысления и лирического обживания. «Задача романиста парадоксальна: у него есть только фрагменты и пристрастные точки зрения, и, однако, с помощью этих фрагментов должна появиться на свет целостность. И насколько эпическая литература связана с действительным состоянием мира, настолько роман должен обнаружить бессмысленность «богооставленного мира» с помощью того смысла, который является формой…Роман в действительности является формой лишь поскольку из своего внутреннего мира отсылает к бессмысленности, что оставляет форму постоянно незавершенной» [Джакомо, 2018, с.74].
Модерный европейский роман репрезентирует то положение дел, что исходит из тотального разрыва между фактичностью мира (как случайного конгломерата событий и объектов) и человеческим стремлением к Телосу (от гр. Τέλος – цель, целеполагание), который можно заполнить лишь собственным волевым усилием («волей к смыслу»). «Размышления, содержащееся в романе, — это «убеждение зрелого возраста, согласно которому смысл не способен более проникать в глубину реальности, и, однако, реальность, лишённая смысла, вновь впадает в ничтожество несущественности. Без идеала, пусть даже иллюзорного, невозможны никакие поиски, никакая настоящая жизнь, никакая парадоксальная связь с целостностью – остаётся лишь лиризм разочарования. Роман – это «форма приключения, собственной значимости внутреннего мира; его содержание – это история души…которая отправляется на поиски приключений, чтобы, испытав себя, обрести собственную существенность» [Джакомо, 2018, с.83].
Искать оправдания Миру и человеку – искать истоки и причины их существования. Предельное философское вопрошание: «Почему есть нечто, а не ничто?» — раскрывает реальность как Πόλεμος (гр. противостояние, война) «сверхвластительного» нечто наличного и человеческого «властидеятельного» (по мысли М. Хайдеггера), которое опознаёт это налично сущее как un-grund (без-основное), лишённое сатисфакции и разомкнутое в горизонте возможного в человеческом Dasein (вот-бытии). Герои Достоевского более чем за полвека до немецкого мыслителя, пытаясь ту же «мысль разрешить», формулировали данное вопрошание по-своему: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?», «Тварь я дрожащая или право имею?», «Это человек-то вошь?», «Стоит ли мировая гармония слезинки хотя бы одного только замученного ребенка?». На что может быть брошена человеческая экзистенция? С чем стоит бороться, с чем смириться (претерпеть), а перед чем склониться в благоговейном почтении?
Персонажи русского писателя своим поведением, эмоциональной энергетикой, напряжением мысли ставят Мир под вопрос; они как бы «обвиняют» мир в его случайной необустроенности, шаткости, и выспрашивают: ежели ты, Мир, случаен в своей фактичности (и мог бы быть иным) – то где твои причины и истоки? А может ты всего лишь «диаволов водевиль», и тогда человек-Бог вправе «заявить своеволие», вершиной которого (по логике одного из персонажей романа «Бесы» Кириллова) должно стать самоубийство (как одновременная победа и над природным инстинктом самосохранения и над якобы богоданностью человеческой жизни). Или мир – гениальный замысел радости и счастья, испорченный, однако, человеческим своеволием; но человеческое страдание в пораженном грехом мире – не высокая ли плата за свободу, да и должна ли свобода быть необходимым компонентом подлинно счастливого Мира? Можно ли холодно-безучастному, случайно-детерминированному и бесцельному противопоставить горячо-сочувствующее, неслучайно-свободное, целеполагающее? Может ли человек один на один противостоять равнодушному Мирозданию, которое в онтологии современного французского философа К. Мейясу зиждется на следующих основаниях:
- Абсолют – это сама возможность быть другим без всякого основания.
- Все в равной степени возможно.
- «Мы не утверждаем, что необходимо, чтобы некое определённое сущее существовало, но что абсолютно необходимо, чтобы любое сущее могло не существовать» [Мейясу, 2015, с.85].
- «Абсолют – это абсолютная невозможность необходимого сущего» [Мейясу, 2015, c.86].
- «Ни у чего нет оснований быть и оставаться таким, какое оно есть, всё должно иметь возможность не быть/или быть иным без всякого основания» [Мейясу, 2015, c.86].
Или только Христос наделяет смыслом и ценностью взаимоотношения человек-мир-человек? Сам русский писатель дал ответ на этот вопрос в своём знаменитом письме Н.Д. Фонвизиной: «Я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост; вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной» [Достоквский, 2017, с.158].
На наш взгляд творчество Ф.М. Достоевского внутри себя содержит три онтологические модели, на фоне которых разыгрываются остродраматические коллизии его произведений. Условно их можно изобразить в виде следующей таблицы.
| Онтология | «Контингентная»
(мир – «пошлый водевиль») |
«Манихейская»
(«Не удалось Творенье») |
«Дуалистическая»
Творенье и человек – поврежденная икона Божья (Богу «нужен» Христос, Христу – человек, человеку – Мир) |
| Этическое следствие | Всё все равно = Всё позволено
«Человек, прибегающий к самоубивству, доказывает только то, что он не понимает шутки, что он, как плохой гирок, не умеет спокійно проигрывать и предпочитает, корда к нему придет дурная карта, бросить игру и в досаде встать из-за стола» (А. Шопенгауэр) |
Бог – деспот/ «слабак» | «Да, Господи, и в том, что сейчас происходит, ты, кажется, тоже не многое в состоянии изменить, теперь все это стало нашей жизнью. Я не требую от тебя никакого отчета, это ты к нему позже призовешь всех нас. Чуть ли не с каждым ударом сердца мне становится понятней, что ты не можешь нам помочь, что это мы должны помогать тебе и защищать твое обитание в нас вплоть до самого конца. Есть люди, они действительно есть, до последнего момента беспокоящиеся о сохранности своего пылесоса и столового серебра вместо того, чтобы заботиться о тебе, Господи. И есть люди, желающие спасти только свое тело, представляющее собой не что иное, как вместилище нашего ожесточения и тысячи страхов. Они говорят: «Я не попадусь в их когти», забывая при этом, что не могут быть ни в чьих когтях, пока находятся в твоих руках» (Этти Хиллесум). Подробнее на livelib.ru: https://www.livelib.ru/quote/2110686-ya-nikogda-i-nigde-ne-umru-dnevnik-19411943-gg-etti-hillesum |
| Этическое действие | каприз/надрыв | бунт | В горизонте открытого шанса – преображение, зависящее от наших усилий по воплощению Телоса, а значит и Идеала (Христос). |
| Статус смысла | Смысл отсутствует как в мире так и вне его | Смысл вне мира и нам не доступен | Смысл внутри мира; он рождается из напряженного дуализма идеального и реального, но не как надмирного и внутримирного, а как имманентного двуединомирного (идеального/реального): «Царствие божие внутри вас есть». |
Эти три онтологические модели, переплетаясь, сталкиваясь друг с другом, проступая сквозь художественные образы героев Достоевского, завязывают узлы драматических коллизий и идейных брожений творческой лаборатории писателя. Основная черта этих героев – попытка прояснить ситуацию собственного существования в момент кризиса настоящего, захваченного грузом прошлого и разомкнуто-возможным горизонтом будущего. М. Хайдеггер назовёт такую ситуацию «сиюбытностью»: позиция человека, характеризующаяся стоянием (и удержанием себя) в просвете бытия между «сверхвластительным» (φύσις-ом) и «властидеятельным» (λόγος-ом).
Эта позиция получает наименование Dasein – знаменитое хайдеггеровское «вот-бытие-именно-этим-вот», как способность распоряжаться собственным существованием в качестве проективной возможности, исходя из открытости Мира-как-Целого, в котором каждое единичное отсылает к другому единичному и опять к Целому-уже-как-единично-неповторимому (у Достоевского – Христос). «Быть человеком значит принять на себя собирание, собирающее разумение бытия сущего, знающее внесение являющегося в творение и, приняв, управлять несокрытостью, охранять её от сокрытости и прикровенности» [Хайдеггер, 1998, с.248].
У Достоевского «сокрытость» и «прикровенность» выступает в виде онтологической ситуации «подполья» — особого духовного пространства, характеризующееся глубоким расколом человека как внутри себя самого (Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов и др.), так и между человеком и миром. Этос («властидеятельное» — как логосное собирание в горизонте должного, устойчиво-пораждающего) не способен справиться с пафосом («сверхвластительным» — как турбулентным, нестабильным, манипулятивным, разрушающе-уничтожающим иерархию смыслов и значимостей). Человек не может больше быть самим собой; быть самим собой – это умение будучи-для-себя-другим в возможностях значимости «для чего?» и «каким образом?», одновременно оставаться тем же прежним, бывшим. Это способность самоотношения на фоне бытия, понятого в качестве разомкнутого горизонта возможностей в Мирности как целом (совокупности отсылки упорядоченных значимостей).
Для «подпольного человека» его «сиюбытность есть постоянная потребность поражения и возрождения своевластия против бытия…всевластие бытия (φυσιξ) насилует сиюбытность, делая её источником свого явления и в качестве такового овладевает ею, пронизывает властью и сохраняет тем самым в бытии» [Хайдеггер, 1998, с.251].
На фоне такой онтологической ситуации проступает этический «крест», на котором оказывается «распятой» подпольная личность: горизонталь – «Разлад», вертикаль – «Соборность». «Разлад»: все негодяи – так не лучше ль быть самым «успешным» негодяем среди всех. В романе это «credo» выговаривает Петр Верховенский в беседе с Кирилловым: «Неужели вы до сих пор не понимали, Кириллов, с вашим умом, что все одни и те же, что нет ни лучше, ни хуже, а только умнее и глупее, и что если все подлецы…то, стало быть, и не должно быть неподлеца?» [Достоевский, 2017, с.587]. «Разлад», «безосновность» (un-grund), «шаткость» патологически притягивает героев «Бесов», обладает для них таинственной притягательной силой (тайна беззакония: «Да будет воля моя!»). Обвиняя Ставрогина в его показной женитьбе на «хромоножке» (сестре Лебядкина), Шатов говорит: «Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному…Вызов здоавому смыслу был уж слишком прельстителен!» [Достоевский, 2017, с.254-255]. Противостоит этому «соборность»: «все за всех виноваты», и принцип «небезразличия», выраженный во фрагменте из «Апокалипсиса», который цитирует Ставрогину Тихон – «Ангелу Лаодикийской церкви…», где «теплоте» позиции «всё всё равно» или кирилловскому «всё хорошо» противопоставляется принцип различения: «…знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих» [Достоевский, 2017, с.654].
Причина «подполья» кроется с одной стороны в той ситуации, в которой оказывается или взрастал «подпольный человек» (сиротство, лишенность любви и тепла, мечтательная экзальтация, презрение окружающих…), а с другой – в специфических чертах характера самого «подпольщика»; духовная биография данного типа изображает «…внезапный слом в характере, в результате которого прекраснодушный романтик неожиданно превращается в угрюмого [миро и] человеконенавистника. С годами всё больше угнетает мечтателя беспомощность перед жизнью, в душе накапливается обида за поражения. Изначальное ощущение своего сиротства перерастает в агрессивное отторжение мира. В результате «ландшафт воображений» обрушивается в мрачное подполье. Выражаясь метафорически, тот угол, в котором герой привык замыкаться от внешнего мира, теперь срастается с его душой и становится её внутренним пространством» [Криницын, 2017, с.315]. «Подпольный герой» попадает в ситуацию крайнего отчуждения от людей, когда становится невозможной не подлинная самореализация, ни любовь. Для «подпольщика» мирность Мира предстаёт в виде насильственной без-основной (un-grund) контингентной упорядоченности («сверхвластительное»), против которой он бунтует.
Вместо разомкнутого Мира, насыщенного значениями-возможностями, мир «подпольного героя» схлопывается либо до «кирпичной стены» (перед Ипполитом в «Идиоте»), либо «деревенской баньки с пауками» (перед Свидригайловым в «Преступлении и наказании») или «каморки-гроба», в которой лежит неподвижно целыми днями Раскольников. Однако, при всём ожесточении у данных персонажей достаточно сильно и обостренно развито ощущение прекрасного и тоска по идеалу, которая подчас с детской наивностью прорывается сквозь цинизм и нигилизм. Они тянутся к людям с мучительной жаждой встречной любви и теплоты и в то же время стыдятся этих порывов, боясь быть осмеянными. Предельная гордыня смыкается у них с предельным презрением к себе («гностическое состояние»). И вот тут, чтобы разорвать это мучительное состояние рождается идея (гнозис): «Она необходима как прорыв, чтобы исчезли стены, чтобы рухнул и завалился угол – подлое, досадное, временное прибежище души…Для обоснования этого прорыва возможны возвеличивание себя до Наполеона, вера в клятву ангела из Апокалипсиса или озарение перед припадком, но в основе таится упоение секундной возможности уйти из-под власти судьбы. Образно оно передаётся мотивом полёта в падении после прыжка…«с колокольни» с замиранием сердца» [Криницын, 2017, с.319]. К данному перечню можно добавить и страсть к расшатыванию социального миропорядка (у Петра Верховенского), и идея занять место Бога (у Кириллова), и сладострастное наслаждение унизительным и подлым у Ставрогина: «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение» [Достоевский, 2017, с.658].
В мироощущении «подполья» проступают черты гностического мировоззрения, которые наиболее ярко (безусловно препарированные через художественную образность) выразили себя в романе «Бесы».
Гностици́зм (др. греч. γνωστικός – «познающий», «знающий»; γνῶσις –«знание») – синкретическое религиозно-философское течение, возникшее и сосуществовавшее некоторое время вместе с христианством, использовавшее в своих интеллектуальных построениях мотивы мотивы Ветхого Завета, восточной мифологии, раннехристианских учений. Общим для гностических систем является дуалистическое представление о злой либо ограниченной в своём могуществе силе Демиурга-Творца и высшем «добром» Боге, сострадающем человечеству, дуализм (резкое противопоставление духа и материи). В основе гностического мифа лежало представление о том, что материальный мир пребывает во зле, а благая по своей сути человеческая духовная природа заключена в тело как в темницу, из которой она жаждет вырваться и воссоединиться с изначальным Не-Сущим или всеобщей духовной Плеромой. Жизнь материального мира основана только на хаотическом смешении разнородных элементов и смысл мирового процесса состоит лишь в разделении этих элементов, в возвращении каждого в свою сферу. Мир не спасается – спасается (то есть возвращается в область божественного, абсолютного непроявленного бытия) только духовный элемент, присущий лишь некоторым людям (пневматикам), изначально и по природе принадлежащим к высшей сфере. Тот, кто обладает знанием, тем самым свободен от подчинения вещам, а значит, и от подчинения каким бы то ни было запретам – в том числе социальным и нравственным. Из этого следовала практика как крайнего аскетизма, так и «свального греха», в которой упрекали гностиков некоторый христиане и античные философы.
Две особо характерные черты гностицизма отчасти проступают в характере героев романа:
- заявить о своей исключительности, основанной на неком особом «знании» (гнозисе);
- отвратиться от окружающего мира (и ближнего), субъективно считая его «злом».
Завуалированное напряжение между гностическим и христианским образом Мира, присутствующее в романе, можно условно и схематично изобразить в виде следующей таблицы.
| Гностицизм | Христианство | |
| Материальный Мир – зло, оковы души. | Мир – благ, но поврежден грехом. | |
| Стремление утвердиться на отрицании Мира, на «НЕТ» (нигилизм). | Стремление утвердиться на надежде преображения Мира, на «ДА». | |
| Индивидуальное начало – зло и оковы души; цель – воссоединиться с праизначальнм Не-Сущим, Плеромой (раствориться в Едином). | Индивидуальное начало – благо; цель – Воскресение в единстве преображенного телесного и духовного. | |
| Презрение к телесному. | Обожение телесного. | |
| Спасение достигается лишь с опорой на собственные силы – интеллектуализм (гнозис). | Спасение = собственные усилия + Божья благодать + любовь и милосердие Христа. | |
| Человек – невинен (я – хорош, мир – плох). | Человек находится между виной и прощением (взаимообусловленность вины и прощения). | |
| Разделение духовного и телесного. | Синтез духовного и телесного. | |
| Избранничество, эгалитаризм, сектантство. | Вселенскость, «демократизм», открытость. | |
| Разъединение теории (гнозиса) и жизни; подчинение жизни теории. | Единство мысли-воли-дела; благочестивая жизнь. | |
| «Властидеятельное» стремится подчинить «сверхвластительное». | Стремление устоять в просвете «сверхвластительного» и «властидеятельного». | |
| Рвзделение без объединения:
Я не-Я
Без-дна (Ставрогин, не способный простить себя) |
Разделение и синтез:
Христос
Я не-Я (Тихон) |
|
| Человекобожество (Кириллов, П. Верховенский). | Богочеловечество. | |
| Крайности смыкаются (шаткость, хаос). | Крайности разводятся (устойчивость, нравственный стержень). | |
| Главная цель – правильное познание и подчинение воли гнозису. | Главная цель – не познание само по себе, а познание во имя чего? | |
| Другой – средство. | Другой – цель. |
И хотя роман в целом погружён как бы в гностическое мироощущение, две сцены повествования просвечивают христианскую антитезу: сцена Шатова с беременной женой и глава «У Тихона». Да и в характерах самих персонажей христианская искра иногда вспыхивает, но к сожалению либо слишком поздно (С. Верховенский), либо поглощается в итоге гностической идеей (Кириллов), либо бесовским унынием (Ставрогин), либо внешними силами (Шатов, Лиза Тушина).
«Бесы» — роман-катастрофа, роман-крушение; крушение социальное, нравственное, межличностное. Роман о расшатывании и распадении основ. Кстати, по мысли гностиков именно смешение мировых элементов, породивших Мир, является основным метафизическим злом, и перед всеобщим воссоединением-освобождением с Не-Сущим Всё должно вновь распасться и разъединиться, возвратившись в своё «прасостояние». Показателен в данном контексте эпиграф к роману, выбранный Достоевским (стихотворение А. Пушкина «Бесы») – своеобразный ключ к пониманию причин такого состояния.
Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
. ………………………………..
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
- мы сбились с пути;
- не без помощи силы, которую мы сами впускаем в себя;
- эта сила – уныние (видеть только плохое);
- эта сила сама не властна над собой;
- этическая установка: «всё всё равно» (похороны или свадьба);
Основная задача бесов – вытравить у человека ощущение присутствия Божьей благодати в пусть и павшем, но все же не брошенном Богом Мире; посеять в человеке семена сиротства, отчуждения, богооставленности. Один из механизмов – упор на несоответствии высоких идеалов и их недостижимости в извращенной реальности. Отсюда у человека два пути: 1) вовсе отказаться от идеала (Ставрогин); 2) попытаться воплотить его во чтобы то ни стало собственными своевольными методами (Кириллов, Петр Верховенский и др.). Первый путь приводит к нигилизму, унынию и отчаянию («всё всё равно»). Второй – к «царству хама»; нравственно уродливый человек способен воплотить нравственно уродливый социальный порядок. В данном контексте ярким примером является Липутин: «…невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора Бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в своё собственное существование» [Достоевский, 2017, с.63]. Неспособность к положительному самоутверждению в христианском служении ближнему «подпольный человек» подменяет страстной одержимостью собственной персоной, горделивым противопоставлением себя Миру, Богу, Другому, иногда прикрывая это прожектами по устроению «всеобщего социального муравейника»; он стремится не открыться, довериться другому, а наоборот – овладеть им, подчинить, использовать в качестве средства. Сплотить таких людей может лишь участие во всеобщем преступлении (замысел П. Верховенского).
Что же формирует «подпольщика», что мотивирует его мысли и поступки, в каких безднах формируется тайник его души? Достоевский нигде прямо не отвечает на эти вопросы, да это, вероятно, и не возможно: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть челоеком» (из письма Ф. Достоевского брату Михаилу) [Достоевский, 2017, с.88]. Но в отношении Ставрогина рискнем предположить, что причина расшатанности его натуры (от аристократического благородства до мелочной подленькой низости) коренится в поре отрочества героя. Взросление и формирование Николая проходило под влиянием двух человек (начал): деспотичной и эмоционально сухой матери (в гностичесой интерпретации – «грубое материальное начало» ) и мечтательного «либерала без всякой цели» Степана Верховенского (в гностичесой интерпретации – «пневматическое одухотворенное начало). Первое пыталось заглушить страх перед un-grund волюнтаристским самодурством, второе – бесплодной эстетсвующей мечтательностью.
Безусловно в рамках одной статьи невозможно исчерпать всю полифоничность смыслов и образов романа (пусть это станет задачей последующих разысканий). В качестве вывода хотелось бы предложить своеобразный «нравственный императив Достоевского» всё творчество которого было вдохновляемо разгадкой Тайны человеческой Личности.
| Мера моей личностности прямопропорциональна той мере неопределённости (un-grund), за которую я готов нести ответственность. Эта неопределённость покрывается той Идеей (значимостью), которую я готов утверждать ценой собственного существования. Для Достоевского – это Христос. |
Черненко Владимир Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры «Общественных наук» Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского (г. Харьков, Украина) ravliks@ukr.net
Литература
- Джакомо Ди, Дж. Эстетика и литература. Великие романы на рубеже веков / Дж. Ди Джакомо; пер. с итал. П. Дроздовой. – Спб.: Алетейя, 2018. – 322 с.
- Достоевский Ф. Бесы: роман / Федор Достоевский. – Спб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 704 с. – (Азбука-классика).
- Достоевский Ф.М. 100 и1 цитата / сост. А.Б. Галкин. – М.: проспект, 2017. – 192 с.
- Криницын А.Б. Сюжетология романов Ф.М. Достоевского: Монография. – М.: МАКС Пресс, 2017. – 456 с.
- Мейясу К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности / пер. Л. Медведевой. – Екатеринбург; Москва: Кабинетный учёный, 2015. – 196 с.
- Хайдеггер М. Введение в метафизику / Мартин Хайдеггер; пер. с нем. Н.О. Гучинской. – Спб.: НОУ – «Высшая религиозно-философская школа», 1998. – 304 с.
References
- Dzhakomo Di, Dzh. Jestetika i literatura. Velikie romany na rubezhe vekov [Aesthetics and literature. Great novels at the turn of the century] – St. Petersburg: Aletejja, 2018. – 322 p. (In Russ.)
- Dostoevskij F. Besy: roman [Demons: a novel] – St. Petersburg: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2017. – 704 p. – (Azbuka-klassika). (In Russ.)
- Dostoevskij F.M. 100 i1 citata [100 and 1 quote] – Moscow: prospekt, 2017. – 192 p. (In Russ.)
- Krinicyn A.B. Sjuzhetologija romanov F.M. Dostoevskogo: Monografija [The plotology of Dostoevsky’s novels: a monography] – Moscow.: MAKS Press, 2017. – 456 p. (In Russ.)
- Mejjasu K. Posle konechnosti: Jesse o neobhodimosti kontingentnosti [After limb: essay on the need for contingency] – Ekaterinburg; Moscow: Kabinetnyj uchjonyj, 2015. – 196 p. (In Russ.)
- Hajdegger M. Vvedenie v metafiziku [Introduction to Metaphysics] – St. Petersburg: NOU – «Vysshaja religiozno-filosofskaja shkola», 1998. – 304 p. (In Russ.)